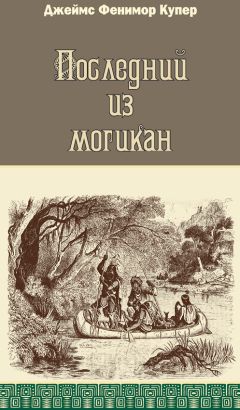– Да, в трансформатор, – отшутился Чирик, хотя наш учитель физики попал в точку.
С тех пор Чирик стал признанным знатоком трансформаторного устройства. Но и Илья Соломоныч, зная такому знанию цену, все же тянул ученика за эту хрупкую соломинку. На выпускных экзаменах, когда Чирик взял билет, он, обращаясь к комиссии, сказал под одобрительные кивки уставших учителей и представителей гороно:
– А может, деточка, ты нам про устройство трансформа тора расскажешь?
– Трансформатор, – гордо начал Чирик…
И таким образом избежал даже тройки по физике в аттестате. Правда, когда он попробовал поступить в институт и на вступительном экзамене, где уже не было Ильи Соломоныча, попытался рассказать о трансформаторе, его оборвали:
– Абитуриент, но у вас же в билете этого нет. Двойка… Только после нескольких лет я узнал, почему Илья Соломоныч был при его молодости совершенно седым.
Мы тогда вообще не очень интересовались, кто какой национальности. Нет, уличная шпана, конечно же, дразнила нас по разному, мы обижались, но в школе… Все были равны. А особенно учителя. Это потом, когда я стал взрослым, мне почти случайно удалось узнать, что Илья Соломоныч был крымчаком итальянского происхождения. Их считали евреями, особенно после того, как Сталин в тридцатых годах сказал примерно так:
– Есть греки, Айвазян – художник-армянин, понимаю. Кто такие крымчаки, кто такие караимы – не знаю… Все евреи… одной национальности…
Это отдалило исследование вопроса о самоидентификации всех малых народов Тавриды в научном смысле на десятки лет, примерно до середины шестидесятых…
Так вот, когда началась Вторая мировая война, еще совсем молодого солдата Илью Хондо забрали в армию и отправили на флот в Севастополь. Когда немцы уже приближались к Крыму, он на полуторке приехал в Симферополь домой и сказал отцу, матери, своим младшим брату и сестре и бабушке, что приехал, чтобы отвезти всех на железнодорожную станцию для эвакуации за Урал. По сведениям военных, немцы будут расстреливать всех людей иудейской веры, как они изгоняли евреев из Германии и создавали гетто в Польше, и по всей Европе… Бедные старики, и им не хотелось никуда, не хотелось менять образ жизни. И самое главное – никто не верил. Отец уверенно сказал старшему сыну:
– Илья, я воевал в четырнадцатом году против кайзера. Они не расстреливали не только евреев, но даже пленных… Этого не может быть…
Илья Соломонович уговаривал свою семью целый день, приводил примеры из десяти последних лет германской действительности, говорил о протестах великого Эйнштейна и Чарли Чаплина. Но отец настаивал:
– Это же цивилизованная нация! А это все – наша пропаганда… Ну, в общем, к ночи Илья Соломоныч уехал назад в Севастополь.
После обороны Севастополя в сорок втором году и его сдачи он был переброшен в Новороссийск, а оттуда на Северный флот. Связи с домом прервались. После войны, в сорок пятом, он вернулся в Крым и сразу же с вокзала пришел в свой дом. Но там жили другие люди. Они рассказали ему, что всю его семью немцы расстреляли на десятом километре под Симферополем еще в декабре 41-го. Илья Соломоныч просидел в палисаднике два дня и две ночи. И все думал, думал, корил себя… Утром следующего дня он пошел ополоснуть лицо к умывальнику и увидел свое отражение в небольшом зеркале. Он стал совершенно седым.
Авва уснула рядом со мной, так что я и не услышал. Боясь разбудить ее, я стал рассматривать ее нос с маленькими чуть-чуть опухшими ноздрями, сквозь который во сне без звучно втягивался воздух. Горбинка носа напоминала мне римских красавиц, а у подножия росла тонкая трава страстных женских усиков, переходящих в плавный персиковый шелк щек, скул и подбородка. Я затаил дыхание, она вздохнула во сне и повернула лицо ко мне. Ресницы, как пальцы рук, сошлись в разочарованном жесте навсегда вместе, и на них можно было уложить, как в детстве, полкоробка спичек… Страх, боязнь ее неслышного посапывания, сна смерти, в котором я видел ее глубокие яблоки глаз под задернутыми покрывалами век. Казалось, яблоки плавали на поверхности бездонного озера, покачиваясь, медленно вращаясь вокруг своей оси. Я закрыл глаза – она исчезла. Я открыл – она была рядом. Я боялся своего дыхания, кашля, чтобы не разбудить ее: тот, кто прерывает сон, разрушает невидимый мир, вторую жизнь, не принадлежащую нам…
Она была так легка и носила такие легкие одежды, что я за метил: легкость одежд – это признак роскоши. Однажды птицы унесли ее белье, которое она сушила на веревках в своем июньском саду. Ее бабушка, сидевшая целыми днями на солнышке у крыльца, видела последнюю птицу, уносившую шелковую рубашку своей внучки в клюве, сплюнув деревянную прищепку наземь. И все, кто вышел на крик старухи, видели исчезавшие в прозрачности неба лифчики, кружавчатые трусики и шелковые черные чулочки… «У меня будет легкая смерть», – сказала бабушка и тихо попросила домашних готовить ее к небытию… В конце июля начал облетать абрикос прямо на крышу, скатываясь на цементную дорожку. Уже подгнившие плоды, пуская сок, становились незаметными и скользкими. На один из таких плодов наступила бабушка, упала и мгновенно умерла…
Никогда я не видел такой гордой скорби на лице. Авва не плакала, не причитала, не бросалась вослед своей второй матери. Она просто молчала. Лицо ее застыло. Это была скульптурная красота. Остановившаяся. Каждую секунду можно было при этом видеть иные выражения. Лицо думало, страдало, просветлялось. Потом оно успокоилось. Она успокоилась. Я молчал, ибо глупость живых не перевесит мудрости мертвых или сострадающих им. Потом все вернулось на свое место, и я любовался ее подвижностью, движением, боясь приблизиться к ней, разбить маску, сделанную из всяких огуречных и клубничных соков, – ее можно было нюхать, ею можно было восторгаться, но прикоснуться…
Как-то я ладонью дотронулся до лица Аввы, и оно рассыпалось. Я видел, как начали облетать ее густые гусеничные ресницы, щеки опадать, глаза западать под самые брови, а грудь растеклась, словно песчаные холмы под дождем. И я понял, что с такой женщиной нужно жить, не трогая ее, вернее трогая, но не касаясь сущности. Я отворачивал лицо и видел еще больше – губы утончались до ненависти, зубы обнажались до боли. Она была сплошной обнаженной болью, и нужно было всегда жить с нею лицо в лицо, глаза в глаза… Я посмотрел на нее: все было на месте – губы, глаза, щеки, ресницы… Все только в твоем понимании. Старинные настенные часы можно завести только их родным ключом. Так и здесь – магическое воздействие не властно над ней, над ее лицевыми нервами и мышцами спины…