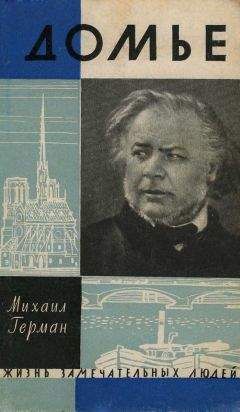Каждый раз, бывая в Париже, Домье видел, как бурно и пышно растет город. Он становился совсем не похожим на Париж его юности. Столица превратилась в огромный грохочущий город, с бесконечными вереницами колясок и карет, с голубым сиянием электрических фонарей, с магазинами, похожими на дворцы, и с дворцами нуворишей, мало отличающимися от модных магазинов. Новые банки, отели возвышались на бульварах, блестя накладным золотом вывесок. Король Нидерландов, австрийский император, император России приезжали в Париж, и муниципалитет едва успевал менять флаги на вокзалах. Император заигрывал с Европой.
За позолоченной декорацией скрывалась неприглядная изнанка: нищета рабочих, трудившихся по двенадцать-тринадцать часов в сутки; разорение мелких крестьян; позорные поражения во внешней политике. Провалилась военная авантюра в Мексике — мексиканцы заставили французов покинуть страну и расстреляли их ставленника императора Максимилиана. Под усиливающимся влиянием церковников правительство Наполеона послало войска против идущих на Рим гарибальдийцев. А с востока уже грозила Пруссия, вокруг которой объединялись германские государства под железной рукой Отто Бисмарка. Гнилое здание Второй империи, подточенное коррупцией, спекуляциями и кризисом, дрожало сверху донизу, готовое рухнуть в любой момент.
Война. С детства Домье помнил Францию, разоренную наполеоновскими походами. Сколько раз видел он кровь на улицах Парижа! Что может быть чудовищнее войны, когда люди убивают друг друга не за свободу, но по воле государя? В стране уже пахло порохом, сотни солдат уезжали в Америку, в Италию и погибали там во славу Луи Бонапарта.
Домье, томимый мыслями о будущем страны, рисовал то, о чем думал. Вот она, война — трагический апофеоз эпохи, когда создания разума и рук человека превращаются в орудия убийства. Он изобразил изобретателя «игольчатого ружья». Он был страшен — отвратительное сочетание маньяка и палача. Скрестив руки на груди, обнажив в усмешке огромные зубы, он озирал поле, покрытое сотнями мертвецов. Сила в руках жестокого безумца приводит к катастрофе.
После опубликования этой литографии Домье получил письмо от Мишле:
«Великолепно, мой дорогой, великолепно! «Изобретатель игольчатого ружья»! Никогда Вы еще не делали ничего более великого и более своеобразного.
Жму Вашу руку. Ж. М.»
Несколько лет назад цензура, конечно, не пропустила бы такой рисунок. Но сейчас правительство, напуганное растущим недовольством в стране, решило пойти на некоторые уступки в отношении печати. И Домье, воспользовавшись передышкой, снова, как в молодости, бросился в бой. Он понимал, что этот либерализм ненадолго, и, отрывая время даже от живописи, рисовал.
Его почерк сильно изменился. Не было больше в его литографиях мягких тональных переходов, линия стала резкой, нервной. Один штрих, жесткий и густой, создавал фигуру, лицо, предметы. За внешней небрежностью карандаша стояла уверенность большого мастера, умеющего даже случайное пятно превратить в выразительную подробность. Одно движение руки — и на камне появлялся штрих, нет, даже не штрих, а сам предмет, ради которого штрих сделан. Чуть больше нажим искусных пальцев — и предмет выходит на первый план, чуть слабее — и линии, словно окутанные воздухом, уходят в глубину рисунка. Тридцать пять лет занимался Домье литографией, карандаш как бы сросся с пальцами. Рисуя то, что его действительно волновало и занимало, Домье работал легко и быстро.
Никогда еще литографии Домье не приобретали столь широкого, всеохватывающего смысла, как в эти годы — последние годы Второй империи. Домье не делал карикатур на политических деятелей. Он раздумывал о судьбах мира, отданного во власть могущественных и жестоких дельцов, о народах, борющихся за свою свободу.
Еще в конце пятидесятых годов Домье, когда позволяла цензура, посвящал свои рисунки событиям за границей. Он рисовал «Пробуждение Италии», могучего колосса, олицетворявшего восставший итальянский народ, рисовал карикатуры на английских колонизаторов. Он понимал: история объединяет пути разных стран, и его искусство выходило за пределы событий во Франции. Одну литографию он назвал «Европейское равновесие». Европа — женщина в короне — из последних сил балансирует на дымящейся бомбе. Еще мгновение — она упадет или взорвется смертоносный снаряд. «Внимание!» назывался другой рисунок: мир в образе крылатой женщины пролетает мимо паутины, сотканной пауками, олицетворяющими германский вопрос, восточный вопрос — все то, вокруг чего разгоралось тлеющее пламя приближавшейся войны. Домье обращался к аллегории, которую вообще не любил, но здесь она была на месте. Антивоенные литографии служили своего рода плакатами, воззваниями, в них звучала одна мысль: «Одумайтесь!» Но те, в чьих руках находилась судьба страны, были спокойны. На рисунке Домье толпа буржуа с равнодушным любопытством взирала на женщину, олицетворяющую мир, которая проглатывала огромный клинок. На дымящихся заводах Рура отливались новые, созданные по последним моделям пушки, промышленные компании получали огромные барыши, и Домье рисовал бога войны Марса храпящим на постели из мешков с золотом или пирующим за столом, где пища состояла опять-таки из полновесных золотых монет.
Да, времена были тревожными, и вдвойне тревожными для Домье, понимавшего, что ему недолго осталось работать. К вечеру в глазах начиналась резь, их застилала отвратительная, дрожащая и мутная пелена. Сильнее всего глаза уставали, когда Домье писал, и приходилось то отступать от мольберта и смотреть на холст издалека, то подходить вплотную к картине. Мазки свежих, поблескивающих красок сливались, покрывались туманом. А писать хотелось, как никогда. Весь накопленный опыт, мысли прожитых лет, мечты и сомнения — все просилось на холст. Домье опять принимался писать, преодолевая боль в глазах. И только когда становилось уж очень трудно, оставлял работу.
Хозяин домика выполнил условия и действительно выстроил в глубине сада небольшое ателье. Домье проводил там целые дни. В раскрытое окно лился чистый воздух полей, жужжала пчела, залетевшая в мастерскую, и аромат цветов спорил с извечным запахом скипидара, лака и краски. Достаточно выйти из ателье, и можно бродить между деревьями и кустами, ощущая под ногами мягкую, поросшую травой землю.
Благодатная природа помогала работать, несколько часов прогулки приносили отдых. И как только утихала резь в глазах, Домье снова садился в свое старое плюшевое кресло перед мольбертом.
Он не оставил давно увлекшую его тему и продолжал писать любителей искусства, коллекционеров, художников. Любители в его картинах были очень разными. Все, что дает художнику зритель, — внимание, любовь, равнодушие, любопытство — все воплощалось в фигурах на холстах Домье.