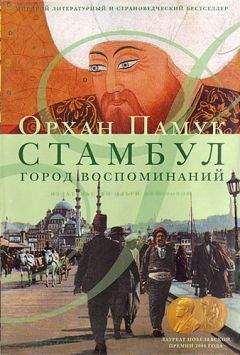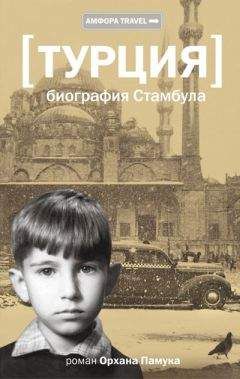Мы тут же положили конец нашим встречам по средам. Через некоторое время мы начали встречаться в другие дни, когда у Черной Розы рано заканчивались уроки, или по утрам, если я прогуливал занятия в университете. В джихангирскую квартиру мы перестали ходить вовсе: туда в любой момент снова могла зайти мама, времени на молчаливые сеансы живописи у нас тоже теперь не было, и, кроме всего прочего, я разрешил укрыться в студии одному своему однокурснику, которого разыскивала полиция (по политическим, как он настаивал, причинам). Мы бродили по стамбульским улочкам, стараясь держаться подальше от Нишанташи, Бейоглу и Таксима, где «все» — то есть наши общие знакомые — могли нас увидеть. Мы встречались на площади Таксим (и от моего университета, находившегося в Ташкышле, и от колледжа «Дам де Сион» туда можно было добраться за несколько минут), садились в автобус и уезжали в какой-нибудь отдаленный район.
Сначала я показал Черной Розе достопримечательности окрестностей площади Бейазыт: кафе «Под чинарами», не утратившее еще тогда своей атмосферы (столкновения на политической почве, время от времени вспыхивавшие перед воротами Стамбульского университета, никогда не выводили мальчиков-гарсонов из дремотного состояния); Государственную библиотеку, в которой, как я с гордостью поведал своей возлюбленной, хранится по экземпляру каждой книги, когда-либо выходившей в Турции; книжный рынок Сахафлар, где пожилые продавцы, сидя в своих палатках, грелись у газовых и электрических печек; почерневшие деревянные особняки в Везнеджилере; византийские руины; обрамленные чинарами улочки и знаменитое заведение «Вефа» (дядя иногда отвозил нас туда на машине, чтобы угостить замечательной бузой[95]), где на стене в рамке под стеклом висел стакан, из которого пил бузу Ататюрк. Меня не очень расстроило, что из всего, показанного мною Черной Розе по ту сторону Золотого Рога, в старых, печальных и бедных кварталах Стамбула, ее, «европеизированную» девушку из богатой семьи, обитательницу Нишанташи, знавшую как свои пять пальцев модные магазины и рестораны Бебека и Таксима, больше всего заинтересовал этот стакан (главным образом потому, что его не мыли тридцать пять лет). Я был доволен своей спутницей: она прятала руки в карманы совсем как я, не меньше меня любила быструю ходьбу и смотрела по сторонам с тем же вниманием, с каким смотрел я сам, когда двумя-тремя годами ранее впервые исследовал эти места. При мысли об этом у меня странным образом начинало побаливать в животе — один из еще не распознанных мною симптомов любви.
Как и я когда-то, она была испугана видом столетних особняков на нищих улочках Сулейманийе и Зейрека — казалось, тронь их пальцем, и они рухнут. Ее заворожили безлюдные залы Музея живописи и скульптуры, находящегося всего в пяти минутах ходьбы от автобусной остановки напротив ее лицея. Пересохшие источники, седобородые старики в тюбетейках, в полной неподвижности сидящие в кофейнях и созерцающие улицу, пожилые тетушки, изучающие каждого проходящего под их окном цепким взглядом работорговца, местные жители, обсуждавшие нас так громко, что нам было слышно («Как думаешь, братец, кто это такие?» — «Брат и сестра, сразу видно!» — «Кажется, они заблудились»), — все это наполняло ее той же печалью и стыдом, что и меня. Иногда за нами увязывались мальчишки, желающие продать нам какой-нибудь сувенир или просто поговорить («Турист, а турист, вот из ёр нэйм?»), но она, как и я, не обращала на них внимания и не спрашивала, почему они принимают нас за иностранцев. (Все же мы старались держаться подальше от крытого рынка Капалычаршы и торговых центров Нуросманийе.) Когда физическое влечение становилось невыносимым (она по-прежнему отказывалась возобновить сеансы живописи в Джихангире), мы шли на расположенную рядом с Музеем живописи и скульптуры пристань в Бешикташе, садились на первый попавшийся пароход (например, «Инширах-54») и, пока позволяло время, катались по Босфору, молча глядя на голые осенние рощи, на колеблемое северным ветром море, дрожащее, словно от холода, перед фасадами ялы, на виднеющиеся за ялы сосны, и наблюдали, как меняется цвет морской воды, когда меняется направление ветра или на небо наползают облака. Много позже я спрашивал себя, почему во время наших прогулок мы никогда не держались за руки — и нашел немало причин тому (главной причиной, впрочем, была моя стеснительность): 1. Мы были просто-напросто робкими детьми, гуляющими по Стамбулу не для того, чтобы показать свою любовь, а для того, чтобы скрыть ее. 2. Если влюбленные держатся за руки — значит, они счастливы и хотят, чтобы об этом знали все вокруг; я же, может быть, и был счастлив, но боялся выглядеть пошлым. 3. Держась за руки, мы были бы похожи на беззаботных туристов, пришедших в эти нищие кварталы, чтобы развлечься. 4. Печаль бедных районов, печаль стамбульских руин уже давно проникла в наши сердца.
Когда мне становилось особенно грустно, меня охватывало желание скорее добраться до джихангирской студии и нарисовать картину, отражающую печаль стамбульского пейзажа, хотя как это сделать, я не представлял. Но моя прекрасная натурщица отказывалась составить мне компанию. В ее представлении лекарство от тоски выглядело совершенно иначе, и я был сильно разочарован, узнав, как именно.
«Мне сегодня очень грустно, — сказала Черная Роза, когда мы в очередной раз встретились на Таксиме — Может быть, сходим в „Хилтон“, выпьем чаю? Если мы сегодня снова отправимся в бедные районы, мне станет только хуже. Да и времени у нас не очень много».
Попытавшись было найти отговорку — на мне была армейская шинель, любимая одежда левацки настроенных студентов тех лет, я был небрит, и, даже если бы нас пустили в отель, у меня могло не оказаться с собой достаточно денег, чтобы заплатить за чай, — я вынужден был в конце концов согласиться, и мы отправились в «Хилтон». Не успели мы войти, как меня узнал один папин друг детства (тот самый, что ходил сюда, чтобы почувствовать себя «как в Европе»). С церемонным видом пожав руку моей печальной возлюбленной, он сообщил мне (шепотом на ухо), что моя знакомая «барышня» очень мила. Нам, впрочем, было не до него.
— Отец хочет как можно скорее забрать меня из лицея и отправить в Швейцарию, — сказала Черная Роза, и из ее огромных глаз в чашку с чаем закапали слезы.
— Зачем?
Они узнали про нас. Спросил ли я, что она хотела этим сказать? Вызывали ли предыдущие возлюбленные Черной Розы такую же ярость и ревность у ее отца? За что мне такая особенная честь? Не помню, задавал я подобные вопросы или нет. Мое сердце было ослеплено страхом и уязвленным самолюбием, и я мог думать в тот момент только о самом себе. Я боялся потерять Черную Розу — хотя еще даже отдаленно не подозревал, какую боль мне придется пережить, — и в то же время меня злил ее страх, положивший конец нашим сеансам живописи и любви в студии.
— Нам лучше поговорить об этом в Джихангире, — сказал я. — Давай в четверг, ладно? Нури ушел, теперь там снова никого нет.
Однако в следующий раз мы снова пошли в Музей живописи и скульптуры. Мы бывали там довольно часто, поскольку, во-первых, музей находился в нескольких минутах езды от лицея Черной Розы, а во-вторых, в его безлюдных залах можно было спокойно целоваться. Кроме того, там можно было укрыться от стамбульской печали и постепенно усиливавшегося зимнего холода. Но через некоторое время пустые залы и развешанные на их стенах картины, по большей части бездарные, стали вызывать у нас тоску даже большую, чем городские пейзажи. Вдобавок музейные служители, начавшие нас узнавать, ходили теперь за нами из зала в зал, действуя на нервы, — поэтому мы перестали целоваться и там.
Но походы в музей тем не менее превратились у нас в привычку, от которой мы не смогли отказаться и в эти безрадостные дни. Мы показывали свои студенческие билеты (хотя этого уже и не требовалось) двум сидящим у входа старикам. Они одаривали нас кислым взглядом, присущим служителям всех немногочисленных стамбульских музеев, словно удивляясь, чего ради мы забрели в подобное место. С деланной жизнерадостностью осведомившись об их здоровье, мы отправлялись в малюсенькие залы Боннара и Матисса. Эти имена мы произносили благоговейным шепотом, что же касается невыразительных полотен турецких академиков (по большей части выходцев из военной среды, обучавшихся живописи в Европе), то мы проходили мимо них, не останавливаясь, вскользь перечисляя западных мастеров, которым они подражали: Сезанна, Леже[96], Пикассо. Больше всего нас разочаровывало в турецких художниках не очевидное подражание западным образцам, а то, что им почти совсем не удавалось передать атмосферу и дух города, по которому, ежась от холода, бродили мы, двое влюбленных.
И все-таки мы приходили в эти бывшие покои наследных принцев, часть дворца Долмабахче (при мысли о том, что мы целуемся чуть ли не в двух шагах от комнаты, в которой умер Ататюрк, нам становилось не по себе), не только потому, что там было пусто и спокойно, и не только чтобы отдохнуть от утомительной стамбульской нищеты, глядя на роскошь поздней Османской империи: величественные залы, необычайно пышные балконные решетки и высокие окна (вид из них был значительно красивее, чем многие развешанные на стенах полотна). Нас влекло в Музей живописи и скульптуры желание посмотреть на нашу любимую картину — «Лежащую женщину» кисти Халил-паши.