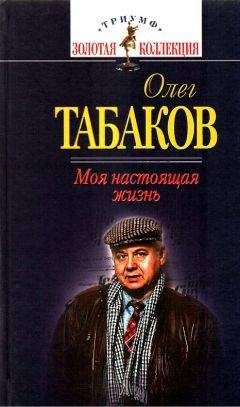Где-то на юге вскоре после того, как я был назначен директором. Работаем над «Погодой на завтра» с Мишей Шатровым и Галей Волчек.
С Галей Волчек в Кремлевском дворце съездов после мощного общественного разочарования, когда Жириновский набрал едва ли не большинство мест в Думе.
В то же время эта история в какой-то мере объяснила некоторые действия театра в отношении меня, предпринятые позже. Дело в том, что сегодняшний «Современник» как бы «не помнит» тех шести с половиной лет, когда я был директором театра. В сознании моих бывших сотрудников период руководства мною театром — «позорное шестилетие», как я называю его по аналогии с «позорным десятилетием» Хрущева. Как будто и не было этих «лет позора», лет отступничества, как формулировала коммунистическая партия. Вроде и меня не было. Был Эрман. На самом деле Леня Эрман — замечательный директор, но, когда я был директором театра, он был директором-распорядителем…
«Современник» обновляется
Мое «позорное шестилетие» ознаменовалось довольно серьезным обновлением «Современника». В театр был принят целый ряд молодых людей, которых, как мне казалось, явно не хватало, что тормозило наше дальнейшее развитие. Это были Фокин, Райкин, Неелова, Поглазов, Сморчков, Богатырев. Чуть позже был взят режиссер Иосиф Райхельгауз. Стремительно и много работая, молодежь заявила о себе в первые же два-три года. Фокин ставит спектакли «Валентин и Валентина» по пьесе Рощина, потом «Провинциальные анекдоты» Вампилова, потом свой знаменитый студийный спектакль по Достоевскому «Сон смешного человека» — «Записки из подполья», ставший тогда в ряд наиболее значимых театральных работ в Москве. Смелая, честная, бескомпромиссная и явно обгоняющая время работа, где замечательно играли Костя Райкин, Лена Коренева и Гарик Леонтьев. Если говорить о методологии воспроизведения живого человеческого духа, это был один из самых высоких ее образцов. Потом Валера Фокин ставил «Не стреляйте в белых лебедей», «С любимыми не расставайтесь». Молодому Фокину я всегда старался дать «зеленую улицу». И не ошибся.
Все это было моими радостями директора и актера театра «Современник».
На приеме с Г. А. Товстоноговым, Н. Дорошиной и В. Тульчинским.
«Балалайкин и Ко» в постановке Г. А. Товстоногова. П. Щербаков, И. Кваша.
Мы без устали приглашали известнейших режиссеров и литераторов, приносивших с собой свежие идеи и дающих все новые толчки для развития забуксовавшего театра. Активное и серьезное участие в этом процессе принимала заведующая литературной частью Елизавета Исааковна Котова, человек, которому театр во многом был обязан полноценным репертуаром.
В это время вроде бы и провалов у нас не случалось. Какие-то премьеры проходили тише, какие-то — звонче, но если зритель ответил признанием, значит, дела обстоят нормально. Хотя и тогда были спектакли, которые меньше посещались.
Спектакль «Тоот, другие и майор», поставленный Аловым и Наумовым, был отмечен на венгерском фестивале. Я играл там довольно эксцентрическую роль Майора. Позднее я еще расскажу о ней.
Георгия Александровича Товстоногова мы пригласили ставить спектакль «Балалайкин и К°» по «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина. Для написания пьесы ангажировали Сергея Владимировича Михалкова. За роль Балалайкина я получил, пожалуй, не меньше лавров и зрительского одобрения, чем когда-то за «Третье желание».
Пьеса американского драматурга Дэвида Рэйба «Как брат брату» в оригинале называлась «Sticks and bones» — «Палки и кости». В «Современник» она попала следующим образом. Я был в Америке и познакомился с Джо Паппом, человеком уникальным, крупнейшим театральным деятелем США. Он продюсировал бродвейские мюзиклы-шлягеры — и «Корус Лайн», и «Иисус Христос — суперзвезда», а на огромные деньги от сборов устраивал Шекспировский фестиваль в Центральном парке, где часть представлений давалась замечательными актерами бесплатно. Эта акция была мощным оздоровлением американской театральной жизни. После Паппа ничего подобного в Америке не делается. Джо Папп вручил мне пьесу, а в Москве зять Екатерины Алексеевны Фурцевой ее перевел. Ставить «Как брат брату» пригласили Анджея Вайду. Честно говоря, я не очень люблю этот спектакль. Мне кажется, многое у меня там было недоделано, и я только-только подступал к той сюрреалистической истории, когда брат уговаривал брата покончить с собой — «Ну, давай, ты просто начни резать вены — не сразу, не сильно, а так — раз-два»… Но притча явно не была доведена ни Вайдой, ни нами, игравшими, до логического завершения. И Игорь Кваша, и я все равно остановились где-то на полпути в изображении этих американских братьев. А играть-то надо было про себя! Потому что ничем не отличается то, что делали и делают члены американской семьи, от того, что делали и делают члены семьи советской или российской.
Большое удовольствие доставил сам факт общения с этим удивительно талантливым, интеллигентным, прекрасно воспитанным, «гжечным» человеком — Анджеем Вайдой. Редко с кем работа бывает такой душевно легкой, не таящей в себе никаких «Сцилл и Харибд»…
Успех Сопутствовал спектаклю «Двенадцатая ночь», которую я, будучи вице-президентом комитета «Театр и молодежь» Международного института театра, попросил поставить президента комитета — Питера Джеймса. Оригинальный перевод шекспировской пьесы по нашей просьбе сделал Давид Самойлов. Телеверсию этого спектакля видели, кажется, все.
Потом приглашали Иона Унгуряну, поставившего «Доктора Штокмана».
Галя Волчек сделала прекрасные спектакли «Свой остров» Каугвера, «Восхождение на Фудзияму» Айтматова и Мухамеджанова. Последний пришлось с грохотом отстаивать в горкоме партии.
Это был очевидный рывок «Современника» после квелых и достаточно кризисных спектаклей «Чайка» и «С вечера до полудня». Я вовсе не хочу сказать, что после моих энергичных стараний в качестве директора в театре наступил ренессанс. Но какое-то оживление в движении, в развитии театральных средств выразительности все-таки наблюдалось.
Доходят до меня какие-то слухи о юбилеях «Современника». А вот моего шестилетнего отрезка как бы… Вот «непосредственно Галина Борисовна приняла театр из рук Олега Николаевича». Я не преувеличиваю собственного значения, но думаю, что, если бы я не встал тогда у кормила, — неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба театра. Вот и все.