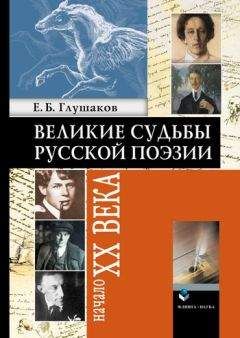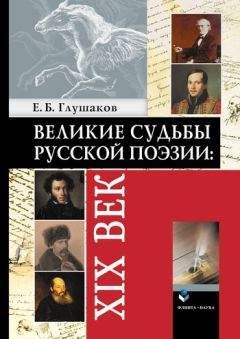Вот несколько образчиков, направленных точно и умело, явно рассчитанных на то, чтобы как можно больнее уязвить поэта, и без того одолеваемого творческими сомнениями. «Верно ли, что Хлебников – гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?» – спрашивал один. Другой принимался убеждать, что Маяковскому надо бросить писать и заняться настоящей работой…
О Владимире Владимировиче ходило много самой непотребной клеветы и сплетен. К примеру, будто бы он ездил по Москве голый с плакатом, на котором было написано «Долой стыд!». Тяжело было выносить подобное даже такому сильному полемическому бойцу, как Маяковский. Не выдерживали нервы.
Как-то один не слишком умный краснобай стал вещать со сцены, мол, какой Маяковский поэт, если пишет о проститутках: «Проститутку подниму и понесу к Богу…» Маяковский вскочил из-за стола и почти простонал: «Я не могу это слушать! Чушь! Это ужасно! Я не могу!» И убежал…
Увы, под обманчивой внешностью сурового мрачного гиганта и неуязвимого единоборца билось нежное, болезненно-ранимое сердце поэта. Все, кто знали Маяковского близко, говорили об его чрезвычайной отзывчивости и душевной мягкости. Тонкая, деликатная натура. Мимо нищих стариков никогда не проходил. Всегда остановится, подаст – с неизменной щедростью и тактом.
Да и здоровье Владимир Владимирович имел отнюдь не богатырское. Часто грипповал. И панически боялся всякой инфекции. А причина – вероятнее всего, психологический шок, пережитый в детстве, когда отец умер от булавочного укола. Вот и сделался поэт, по свидетельству современников, «очень брезглив (боялся заразиться). Никогда не брался за перила, открывая двери, брался за ручку платком. Стаканы обычно рассматривал долго и протирал…»
Более поздние советские поэты, такие, как Багрицкий и Заболоцкий, не столько воодушевлённые коммунистической идеологией, сколько подмятые ею, постарались «спрятать концы в воду», не допуская хотя бы в свои книги ничего конъюнктурного и случайного. Юбилейная выставка Маяковского явила и современникам, и потомкам, и самому поэту всё, что он написал не по вдохновению, а по революционному заказу, обнажив перед всеми его человеческую и творческую трагедию. Выставка оказалась итогом не только двух десятилетий, но и всей жизни. Удручённый непониманием, бесконечно уставший, не сумевший распутать узлы своих любовных неудач, 14 апреля 1930 года поэт покончил с собой.
Когда-то четырнадцать лет назад в стихотворении, посвящённом Лили Брик, Владимир Владимирович написал: «И в пролёт не брошусь, и не выпью яда… – и уже с меньшей убеждённостью добавил, – и курок над виском не смогу нажать». Пришло время, и смог. Впрочем, «не над виском». Выстрел был произведён из личного маузера в область сердца.
«Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сёстры и товарищи, простите это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля – люби меня. Моя семья это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна Полонская…
Любовная лодкаразбилась о быт. Я с жизнью в расчёте И не к чему перечень Взаимных бед И обид. Счастливо оставаться. ВладимирМаяковский. 12.1V.30 г.»
Вряд ли такое возможно, что бы предсмертная записка заготовлялась заблаговременно. А вот какие-то сомнения, колебания, приведшие к двухдневной отсрочке в исполнении собственного приговора, возникнуть могли… Могло случится и такое, что в эмоциональном кошмаре последних дней, перед тем, как рухнуть в вечность, поэт потерял счёт времени. Но даже в этом запредельном состоянии Владимир Владимирович тревожился: как бы, по примеру Есенина, тоже не вызвать волну самоубийств. Почему и написал – «другим не советую»…
Было ли это вдруг обретённой свободой от мучительного, незаконного и лишённого взаимности чувства к Лиле Юрьевне? А может быть, освобождением из-под непосильной тяжести вдруг опостылевшего идеологического прессинга? Или Маяковский понял, что по наивности своей и политической слепоте верой и правдой служил режиму страшного чудовищного красного каннибализма? Или сразу: и первое, и второе, и третье, да ещё и четвёртое, о чём и знать не ведаем?
Между тем, психологическая готовность к суициду вызревала исподволь и постепенно. Когда-то в юности написавший: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!..», уже в пору создания поэмы «Владимир Ильич Ленин» поэт не без горечи осознаёт историческую ничтожность человеческой личности:
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит? —
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
……………………..
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин…
…………………….
Единица – вздор,
единица – ноль…
……………………….
Прежде всего, такому изменению в самоощущении Маяковского поспособствовали Революция и любимая женщина. Холодное равнодушие и многочисленные унижения, испытанные поэтом от этих двух – самых дорогих и необходимых, раз за разом подтачивали его чувство человеческого достоинства. Вот почему однажды, окончательно уничтоженный ими, Владимир Владимирович не посчитал большой потерей пренебречь этим «нулём», т. е. собственной жизнью…
В своей поэме «Облако в штанах» Маяковский назвал себя тринадцатым апостолом. Тринадцатым апостолом, как известно, был Иуда Искариот, наложивший на себя руки. Самоубийство поэта было в некотором роде тоже предательством, предательством по отношению к Революции, которую он воспевал. Недаром Горький, узнав о его смерти, стукнул кулаком по столу и заплакал. Недаром советская пресса во всю свою бытность не знала, как мотивировать непростительную слабость его ухода.
36 лет с небольшим прожил поэт, на полтора месяца меньше, чем Пушкин. И это трагическое сближение, сходство, конечно же, не мог не осознавать в свои последние дни и часы… А ещё прежде, когда помышлял жениться на Татьяне Яковлевой, которая была на тринадцать лет его младше, разве не подумалось поэту, что и супруга Александра Сергеевича была на столько же моложе своего мужа?
Когда-то в 1924-м Владимир Владимирович написал: «Я себя под Ленина чищу, чтобы плыть в революцию дальше». А уже через два года предпочёл другой, более суровый идеал:
Юноше,
обдумывающему
житьё,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай её
с товарища
Дзержинского».
Однако равнение на Ленина и Дзержинского было для поэта формальным, установочным. А вот к Пушкину влекло подлинное, настоящее чувство: «Я люблю вас, но живого, а не мумию…» Потому и равнялся на него постоянно. И радостное ощущение своей близости к Александру Сергеевичу даже по такому ничтожному поводу, как начальные буквы фамилий: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ». И тут же ревность к одному из не слишком даровитых коллег: «Между нами – вот беда – позатесался Надсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!»