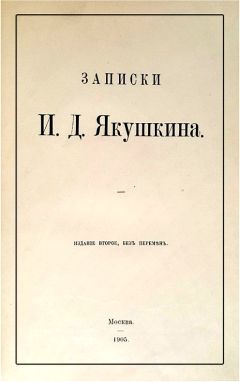Не без определенного основания возникает искушение сказать, что и вся ситуация «великого противостояния» на Сенатской своими внешними контурами напоминает дуэльную модель, когда «вызов брошен», противники сошлись у некоей незримой черты, последние переговоры к примирению не привели, и вот — «право первого выстрела» остается за тем, кого призвали к ответу. Не выстрел, а залп картечью грянул. Ответа последовать уже не смогло. А потом, уже задним числом, «оскорбленный» всей этой дуэльной ситуацией Николай кинулся добивать поверженного противника — совсем уже вопреки всем «правилам чести». Но, к слову сказать, Николай сразу же после своего воцарения весьма определенно подтвердил существовавший ранее, но плохо исполнявшийся закон об уголовной ответственности обеих сторон за дуэль, тотчас же начав использовать этот закон в целях политического шантажа, продемонстрированного им еще на самом следствии по делу декабристов как довольно действенный прием давления на своего противника. Дуэли Пушкина и Лермонтова, состоявшиеся непосредственно вроде бы по совершенно личным и частным мотивам чести, оказались объективно и независимо от их начальных личностных мотивов делом чести всего русского общества…
Герцен писал о декабристах: «Десять лет каторжных работ, двадцать пять лет ссылки не смогли сломить и согнуть этих героических людей, которые с горстью солдат вышли на Исаакиевскую площадь, чтобы бросить перчатку императорской власти и всенародно произнести слова, которые… передаются от одного к другому в рядах нового поколения… Что произошло бы в случае успеха? Трудно сказать; но каков бы ни был результат, можно смело утверждать, что народ и дворянство спокойно приняли бы совершившийся факт. Это-то и было с ужасом понято правительством».
«Бросить перчатку императорской власти» — не «красивые слова»; за ними, как мы могли видеть, стоит определенная социально-психологическая традиция, за ними стоят определенные представления о «понятиях чести», личной и общественной, о способах решения «дел чести», о соотношении таких кардинальнейших для всей нашей жизни категорий, какими являются «политика» и «мораль».
«На другой день мы непременно должны были получить известие о том, что совершилось в Петербурге. Если бы предприятие петербургским членам удалось, то мы нашим содействием в Москве дополнили бы их успех; в случае же неудачи в Петербурге мы нашей попыткой в Москве заключили бы наше поприще, исполнив свои обязанности до конца и к Тайному обществу и к своим товарищам. Мы беседовали у Митькова до четырех часов пополуночи, и мои собеседники единогласно заключили, что мы четверо не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию. На завтрашний день вечером назначено было всем съехаться у Митькова и пригласить на это совещание Михайлу Орлова… Поутру… всем уже были известны происшествия 14 декабря в Петербурге; знали также, что все действующие лица в этом происшествии сидели в крепости. Приехав к Орлову, я сказал ему:
«Ну вот, генерал, все кончено».
Он протянул мне руку и с какой-то уверенностью отвечал:
«Как это — кончено? Это только начало конца»…
Тут его позвали наверх к графине Орловой… Во время его отсутствия взошел человек… в изношенном адъютантском мундире без аксельбанта и вообще наружности непривлекательной… Орлов, возвратившись, сказал: «А! Муханов, здравствуй; вы не знакомы?» — и познакомил нас. Пришлось протянуть руку рыжему человеку. Ни Орлов, ни я, мы никого не знали лично из членов, действовавших 14 декабря.
Муханов был со всеми коротко знаком. Он нам рассказывал подробности про каждого из них и, наконец, сказал: «Это ужасно лишиться таких товарищей; во что бы то ни стало надо их выручить: надо ехать в Петербург и убить его».
Орлов встал с своего места, подошел к Муханову, взял его за ухо и чмокнул его в лоб. Мне казалось все это странно. Перед приходом Муханова я уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ожидали. На это приглашение он отвечал, что никак не может удовлетворить моему желанию, потому что он сказался больным, чтобы не присягать сегодня; а между тем он был в мундире…
Видя, что с ним не добиться никакого толку, я подошел к нему и сказал, что так как в теперешних обстоятельствах сношения мои с ним могут подвергнуть его опасности, то, чтобы успокоить его, я обещаюсь никогда не посещать его. Он крепко пожал мне руку и обнял меня, но, прежде чем мы расстались, он обратился к Муханову и сказал: «Поезжай, Муханов, к Митькову»… Такое предложение меня ужасно удивило, и на этот раз я совершенно потерялся. Вместо того чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу вести Муханова, которого я совершенно не знаю, к Митькову, который его также не знает, я вышел вместе с Мухановым, сел с ним в мои сани и повез его на совещание… Все слушали его со вниманием… он заключил предложением ехать в Петербург, чтобы выручить из крепости товарищей и убить царя. Для этого он находил удобным сделать в эфесе шпаги очень маленький пистолет и на выходе, нагнув шпагу, выстрелить в императора. Предложение самого предприятия и способ привести его в исполнение были так безумны, что присутствующие слушали Муханова молча… В этот вечер у Митькова собрались в последний раз на совещание некоторые из членов Тайного общества, существовавшего почти 10 лет. В это время в Петербурге все уже было кончено, и в Тульчине начались аресты. В Москве первый был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость М. Орлов, потом полковник Митьков и многие другие. Меня арестовали не раньше 10 генваря 1826 г.».
И. Д. Якушкин. ЗапискиТут есть у Якушкина некоторые незначительные, как установили историки, редкие для якушкинских «Записок» погрешности в датах, но не в том, понятно, суть, и эти погрешности ровным счетом ничего не меняют.
Итак, некогда Якушкин сам вызывался убить царя, был не поддержан товарищами по Обществу и, как говорится, хлопнул дверью. Теперь он сам оказывается весьма далек от мысли о поддержке замысла цареубийства, когда и терять уже, судя по всему, нечего, а товарищей выручать следовало бы. Но по одному даже тону рассказа о происходившем чувствуется, что даже сама затея цареубийства в устах Муханова, который почему-то чуть ли не сразу же оказывается Якушкину несимпатичен и чуть ли даже не подозрителен, — сама затея цареубийства теперь представляется Якушкину более чем сомнительной. Что же это — непоследовательность? Переменился Якушкин? Как говорится, «сдал»?
И что сталось с его «понятиями чести»? Остыл, что ли, со временем этот, как говорит о нем Шаховской, «почти южанин»? Меланхолия совсем доконала некогда «резвого и влюбленного» юношу? Или все-таки тут вернее будет или даже просто правильным будет говорить о каких-то очень ярких точках проявления иной внутренней эволюции, эволюции иного типа, совершившейся в Якушкине между этими двумя характернейшими эпизодами его жизни? Скажем, от состояния социально-психологической экзальтации и «южного» экстремализма к той «меланхолии», которая чем-то уже сродни холодному пламени Грибоедова и какому-то мраморно незыблемому героизму Чаадаева, к той самой «меланхолии», которая потом переработается в смертную тоску и злое отчаяние Лермонтова, так хорошо описанные тем же Герценом? Судя по всей последующей жизни Якушкина, по всему ее стилю и манере, чуждой всякого подобия громких слов и скупой на всякие жесты, думаю, что последнее предположение вернее.
Якушкин становился со временем отнюдь не каким-то там «умеренным», а, скорее, революционером, ощущающим меру исторически необходимого действия. У Якушкина стали возникать вкус и способность к тому скромному, неброскому подвижничеству, которое бывает иной раз так легко принять за снижение революционной активности до уровня «малых дел», если только при этом упускать из виду то важнейшее обстоятельство, которое сам Якушкин никогда более не упускал из виду, а именно — сохранение чувства и сознания революционной цели и перспективы.
Как ясно из разговора Якушкина с Александром Бестужевым (уже после вынесения приговора), мысль о том, что формы и методы осуществления коренного переустройства российского общества следует как-то изменить, весьма занимала Якушкина (а не была им «в принципе» оставлена) и у него к тому времени уже были некие принципиальные соображения на сей счет, он уже понимал, что работа тут предстоит долгая, хлопотная и не очень-то видная — в содружестве с тем самым «кротом истории», который роет всегда «во глубине», но от невидимой работы которого вдруг оседают и смещаются целые социальные пласты и глыбы.
Якушкин не стал замышлять новых планов цареубийства, не стал вынашивать замыслов побега с каторжных работ или из мест поселения, не одобрил он и той мрачной броскости и какого-то, как ему казалось, каторжного «гусарства», которые виделись ему в поведении Лунина, так и сгинувшего в Акатуе. Якушкин был «не одинок в своей критике… Ряд поступков Лунина, которые, очевидно, представлялись ему самому как продолжение «старого», — пишет Н. Я. Эйдельман, — теперь нередко оценивается как анахронизм, архаизм.