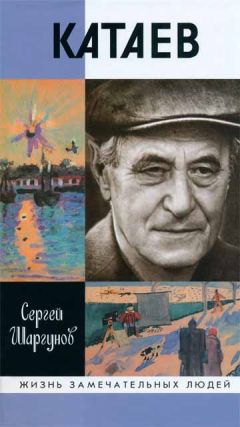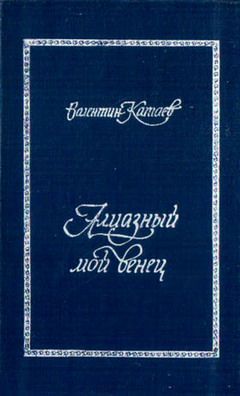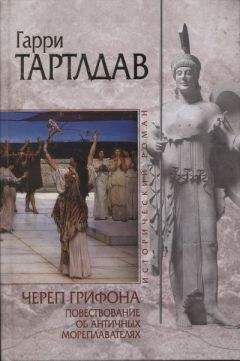Катаев вспоминал: после того как драку разняли и Пастернак ушел, Есенин стал просить его устроить встречу с Маяковским и их примирить: «Подлецы нас поссорили». Когда Катаев отказался, Есенин попросил отвести его к Асееву. Идти было совсем близко. Они поднялись на девятый этаж дома во дворе Вхутемаса. Асеева дома не оказалось, и Есенин, которому наскучило ожидание, попросил хозяйку Оксану высморкаться, но вместо предложенного ею платка предпочел скатерть.
(Анна Коваленко вспоминала: «У нас в Мыльниковом Есенин не умел вести себя со скатертью».)
Катаев потребовал извинений и, не получив их, бросился на Есенина.
Катаев дрался с Есениным… «Ну это, конечно, фантазия», — предположил поэт Игорь Волгин в телепередаче «Игра в бисер».
Однако, когда «Алмазный мой венец» вышел, вдова Асеева еще здравствовала, и Катаеву было не с руки врать.
Из воспоминаний самого Асеева выясняется, что во время тех посиделок на Мясницкой Есенин много раз подряд проиграл Катаеву и Оксане в карты: «Однажды в последних числах октября 1925 г. мне пришлось вернуться домой довольно поздно. Живу я на девятом этаже, ход ко мне по неосвещенной лестнице. Здоровье жены, долго перед тем лечившейся, которое за последнее время пошло на поправку, явно ухудшилось. Она рассказала мне. Днем, в мое отсутствие, забрались ко мне наверх двое посетителей: С. А. Есенин и один беллетрист. Пришел Есенин ко мне в первый раз в жизни. Стали ждать меня. Есенин забыл о знакомстве с женой в “Стойле Пегаса”. Сидел теперь тихий, даже немного застенчивый, по словам жены. Говорили о стихах. Есенин очень долго доказывал, что он мастер первоклассный, что технику он знает не хуже меня с Маяковским, но что теперь требуются стихи попроще, посентиментальнее. Говорил, что хочет свести знакомство поближе, говорил о своей семье, о женитьбе, был очень искренен и прост. Сыграли они с женой и беллетристом пятнадцать партий в дурачки. И все оставался Есенин, так что под конец стал подозревать их в заговоре против него. И затосковал. Говорил, что ему ни в чем не везет. Ни в картах, ни в стихах. Что он несчастлив, что я (про меня) умею устроить, очевидно, свою личную жизнь, как хочу, а он живет, как того другие хотят. Сидел он, ожидая меня, часа четыре. И переговорив все, о чем можно придумать при малом знакомстве с человеком, попросил разрешения сбегать за бутылкой вина. Вино было белое, некрепкое. И только Есенин выпил — начался кавардак. Поводом послужил носовой платок. У Есенина не оказалось, он попросил одолжить ему. Жена предложила ему свой маленький шелковый платок. Есенин поглядел на него с возмущением, положил в боковой карман и начал сморкаться в скатерть. Тогда “за честь скатерти” нашел нужным вступиться пришедший с ним беллетрист. Он сказал ему:
— Сережа! Я тебя привел в этот дом, а ты так позорно ведешь себя перед хозяйкой. Я должен дать тебе пощечину.
Есенин принял это как программу-минимум. Он снял пиджак и встал в позу боксера. Но беллетрист был сильнее его и меньше захмелел. Он сшиб Есенина с ног, и они клубком покатились по комнате. Злополучная скатерть, задетая ими, слетела на пол со всей посудой. Испуганная женщина, не зная, чем это кончится, так как дрались с ожесточением, подняла крик и, полунадорвавшись, заставила их все-таки прекратить катанье по полу. Есенин даже успокаивал ее, говоря:
— Это ничего! Это мы боксом дрались честно!
Жена была испугана и возмущена; она потребовала, чтобы они сейчас же ушли. Они и ушли, сказав, что будут дожидаться на лестнице».
Через два дня, рассказывал Катаев, «тихий, ласковый и трезвый» Есенин пришел в Мыльников поутру с веревочной кошелкой, где были бутылка водки и две копченые рыбины. «Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал: — А меня еще потом били маляры. Конечно, никаких маляров не было. Все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из “Преступления и наказания”. Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников…» Тут Катаев, похоже, пытался оправдаться от обвинения, возведенного на него хмельным Есениным в асеевских воспоминаниях:
«— Ты не знаешь. Как мы вышли от тебя — жена твоя осердилась, ну, а нам же нужно было докончить: мы же ведь честно дрались — боксом. Вот мы и зашли туда, где был ремонт. Я бы его побил, но он подговорил маляров, они на меня навалились, все пальто в краску испортили, новое пальто, заграничное.
Говорил он о пальто ужасно грустно.
— Пальто все испортили. Вот ногу разбили — ходить не мог.
Он засучил штанину и показал действительно ужасный шрам на ноге через всю икру.
— Да кто же это тебя так, Есенин?
— Маляры! Один стамеску подставил, я об нее и разодрал ногу. И пальто пропало. Теперь не отчистишь.
Так я и не мог добиться, каким образом фантазия переплелась у него с действительным шрамом и, очевидно, действительно испорченным пальто».
Катаев вспоминал, как после примирения ездил с Есениным по разным домам — тот пил и читал поэму «Черный человек». Наконец заявились в Сретенский переулок, где в небольшой квартире жили переехавшие из «гудковского» общежития Олеша и Ильф (уже с женами: Олеша с Ольгой Суок, Ильф с Марией Тарасенко). «Это были узкие, однако веселые и светлые клетушки, — вспоминал Олеша, — может быть, больше всего было похоже на то, как если бы я и Ильф жили в спичечных коробках».
По Катаеву, Есенин совсем захмелел и еле держался на ногах, он устроил драку со своим поклонником-подражателем (очевидно, Иваном Приблудным[45]), «сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка».
У Олеши: «Вдруг поздно вечером приходят Катаев и еще несколько человек, среди которых — Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный — видно, после драки с кем-то. С ним был молодой человек, над которым он измывался, даже, снимая лакированную туфлю, ударял ею этого молодого человека по лицу… Потом он читал “Черного человека”. Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала».
Затем, писал Катаев, Есенин вырвался и умчал в ночь «бить морду Зинке», то есть своей бывшей жене Зинаиде Райх, матери двоих его детей, которых усыновил Всеволод Мейерхольд.
28 декабря 1925 года в Ленинграде в гостинице «Англетер» тело Сергея Александровича Есенина было обнаружено в петле. «Он верил в загробную жизнь. Долгое время мне казалось — мне хотелось верить, — что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так», — сообщал Катаев о написанном кровью «До свиданья, друг мой, до свиданья».
Катаев воображал похоронную толпу возле памятника Пушкину и открытый гроб с «маленьким личиком» поэта, «задушенного искусственными цветами и венками с лентами».