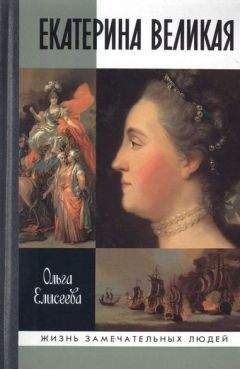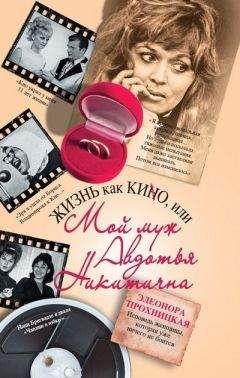Петр ответил 15 мая: «Ваше величество думаете, что ради народа я должен бы короноваться прежде своего отъезда в армию. На это я принужден сказать Вам, что так как эта война почти еще в начале, то именно поэтому я не вижу никакой возможности короноваться раньше с тою пышностью, к которой русские привыкли. Я бы не мог совершить это, так как еще ничего не готово, и наскоро здесь ничего не найдешь. Принц Иван у меня под строгой стражей, и, если бы русские хотели мне зла, они бы давно могли его сделать, видя, что я не берегусь, предаваясь всегда Божьей воле, хожу по улице пешком, чему Гольц свидетель. Могу вас уверить, что, когда умеешь обращаться с ними, можно на них положиться»[425].
Страшные слова. До переворота осталось менее двух недель.
Впрочем, не стоит слишком обольщаться на счет простодушия императора. С легкомыслием он всегда сочетал подозрительность. Поэтому при встрече сказал Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Вслед за чем прислал к Ивану Ивановичу Мельгунова с приказом следовать за ним в армию волонтером[426].
После переворота Фридрих II с раздражением писал Гольцу: «Лица, на которых смотрели как на заговорщиков, менее всего были замешаны в заговоре. Настоящие заговорщики работали молча и тщательно скрываясь от публики»[427]. Позволим себе одно предположение. Когда-то в Кёнигсберге Шверин был очень дружен с Орловым. Встретившись в Петербурге, приятели, вероятно, возобновили добрые отношения. Григорий мог стать тем человеком, который пустил наблюдателей прусского короля по ложному следу или переключил их внимание с императрицы на недовольных вельмож в окружении Петра III.
«Да здравствует царко Петр Федорович!»
В самом начале 1762 года герцог Шуазель из Парижа советовал французскому послу вести себя с Петром III, «как с больным ребенком, стараясь ничем не раздражать его». Судя по письмам, именно так держался по отношению к корреспонденту Фридрих II. Только потакая императору, можно было чего-то добиться. Заверения в самой чистосердечной дружбе соединялись с потоками лести, с которой король явно не боялся переборщить.
«В то время как меня преследует вся Европа, в Вас нахожу я друга, — писал он 20 марта, — нахожу в Вас государя, у которого сердце истинно немецкое, который не хочет способствовать тому, чтобы Германия была отдана в рабство австрийскому дому и который протягивает мне руку помощи, когда я нахожусь почти без средств»[428].
Первые шаги были очень осторожными. Фридрих нащупывал почву. 6 февраля он писал: «Никто, как я, не хочет установить между двумя государствами старинное доброе согласие, нарушенное усилиями моих врагов, что выгодно только для посторонних»[429]. Многозначительные слова. Они как бы вводили Петра III в круг «своих», немецких государей, оставив за бортом общих врагов — Австрию и Францию. 15 февраля Петр ответил, что жаждет установить «союз дружбы, давно уже соединивший нас двоих и долженствующий вскоре соединить наши народы»[430].
Король тут же поймал брошенный волан и сообщил 3 марта, что желал бы преподнести молодому монарху прусский орден Черного Орла, которым некогда владела императрица Елизавета. То была тайная мечта Петра, а угадывать желания будущего союзника стало на полгода главным занятием короля. «Еще раньше воцарения Вашего императорского величества я был многим обязан Вам… Кто совершает поступки столь благородные и столь редкие… должен ожидать выражения удивления… Да будет Ваше правление продолжительно и счастливо!»[431]
Прочитав подобные слова, Петр смутился. Со всем тщеславием и бахвальством, он был простым малым. «Ваше величество желаете насмехаться надо мной, расхваливая так мое царствование», — отвечал он 15 марта и заверил, что считает корреспондента «одним из величайших в свете героев»[432]. Но Фридрих знал: лести не бывает много. «Вы подаете пример добродетели всем властителям, что должно привязать к Вам сердца всех честных людей, — настаивал он 23 марта. — …Я потерял за эту войну 120 генералов, 14 генералов в плену у австрийцев; в результате наше положение ужасно. Я мог бы прийти в полное отчаяние от него, но я нахожу верного друга в лице великого, одного из самых великих государей Европы, который чувства чести предпочитает всяким соображениям политики. Ах, не считайте странным, Ваше величество, что все мои упования на Вас»[433].
Другой чувствительной ноткой, на которую откликалось сердце Петра, были прямота, искренность, верность союзническим обязательствам. «Ваше императорское величество — один из самых могущественных государей мира; тем не менее это не император, но человек, истинный друг, дарованный мне небом, — рассуждал Фридрих 4 апреля. — Я чрезвычайно счастлив, что Гольц удостоился Вашего одобрения; я ручаюсь за него, как за честного человека… Я горько упрекал бы себя, если бы послал к Вашему двору кого-нибудь, чтобы двоедушничать… Перед отъездом Гольца я сказал ему: „Не пускайте в ход ни хитростей, ни каверз; обращайтесь прямо к императору, пусть искренность и правдивость единственно руководят вами. Государь этот — тот же я“. …Чувства эти будут сопровождать меня до могилы»[434].
Существует мнение, будто прусский король рекомендовал Петру III сблизиться с женой и прислушиваться к ее словам. В 1773 году французский посол Дюран де Дистроф привел цитату из якобы виденного им письма Фридриха II: «Советуйтесь с императрицей, она даст Вам только добрые советы, и я призываю Вас следовать им»[435]. Это дипломатическая легенда, не раз повторенная историками. В письмах прусского короля 1762 года ни разу не упомянута Екатерина. И мы смеем утверждать: не могла быть упомянута, исходя из всего строя отношений корреспондентов. Фридрих старался ничем не вызвать неудовольствие Петра. Слишком многое для него было поставлено на карту.
Другое заблуждение касается войны с Данией. Принято считать, что Фридрих отговаривал русского императора от ее начала. Однако письма рисуют совсем иную картину. Еще в апреле король рассуждал о предполагаемом противнике: «Это слабое правительство боится действовать и равным образом боится разоружиться. Ваше величество сможет делать с этими людьми все, что Вам будет угодно»[436]. Через двадцать дней он развил свою мысль: «Ваше императорское величество имеете неоспоримые права на владения, отнятые у Вашего дома во время смут. Вы имеете право требовать их обратно; война дарует Вам право победы… Я горю желанием содействовать всем Вашим предприятиям… Пусть Ваше величество укажет количество войск, которое ему угодно, чтобы я присоединил к его войскам… Как бы стар и дряхл я ни был, я сам пошел бы против врагов Вашего величества»[437]. О себе король не забывал и тут же попросил у союзника 14 тысяч регулярного войска и тысячу казаков, чтобы справиться с австрийцами.