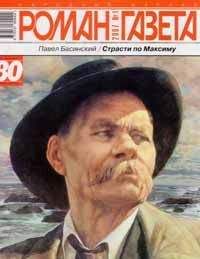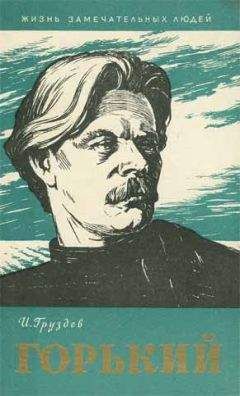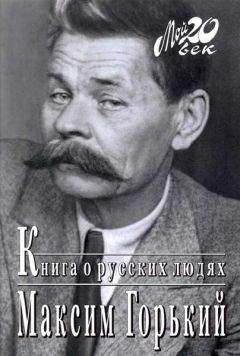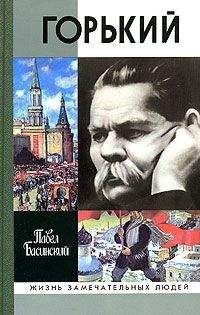«Милый Алексеюшка! – пишет он в марте 1903 года. – Что ты не отзовешься, черт? Тошно на душе становится, когда ты молчишь. Вот что мне нужно. Я еду на днях в Крым и очень хотел бы повидаться до отъезда с тобой».
Горький отозвался бодрой телеграммой: «Обожаю тебя. <…> Жму руку, обнимаю».
По-видимому, Андреев написал Горькому еще письмо или несколько, которые нам неизвестны, где жаловался ему на что-то. Но вспомним девиз Горького: «Правда выше жалости». А правда была в том, что Андреев с его метаниями начинал раздражать Горького.
«Прочитав твои письма, – отвечает он, – наполненные перечислением всех существующих и разрушающих тебя болезней, стал с озлоблением ждать телеграммы твоей с извещением о смерти и подписью "Новопреставленный Леонид"».
Это был хотя и дружеский, но обидный ответ. Вероятно, задело Андреева и то, что посланный им Горькому в рукописи рассказ «Из глубины веков» Горький похвалил скупо («недурная вещь»), но печатать его без серьезной правки не посоветовал, что Андреев и сделал, то есть не печатал рассказ до 1908 года.
Именно в это время в первой книге сборника «Знания» за 1903 год (вышел в 1904 году) появляется программная вещь Горького – поэма или рассказ, написанный ритмической прозой, под названием «Человек».
В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века ходил в диссидентских кругах такой анекдот. Одного инакомыслящего решили принудительно поместить в психиатрическую лечебницу. Врач, просматривая арестованные у его подопечного бумаги, натолкнулся на переписанную от руки поэму Горького «Человек». Вероятно, эта вещь служила для инакомыслящего своего рода памяткой, как неуклонно идти к своей цели, не поддаваясь никаким искушениям. Прочитав листок, где имени Горького не было, врач решил, что эта поэма принадлежит его пациенту, и с чистой совестью поставил такой диагноз: депрессивно-маниакальный психоз в острой форме, выраженный в маниях величия и преследования.
Как ни трагикомично это звучит, но поэму «Человек» вполне можно прочитать такими глазами. В художественном смысле горьковская задача изначально была обреченной: нельзя изобразить Человека. Человека вообще.
В двадцатые годы двадцатого века французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить Человека вообще, то есть человеческую сущность. Для этого он опять-таки «схитрил» и прибег к иносказанию – к мифу о Сизифе. Между «Человеком» Горького и «Мифом о Сизифе» Камю есть буквальные и просто поразительные переклички, причем, скорее всего, невольные, ибо нет сведений, что Камю читал горьковского «Человека».
Сизиф, наказанный богами тем, что вечно обречен катить в гору камень, сравнивается у Камю с Человеком, который тоже наказан Богом за свое своеволие, за попытку создания собственной человеческой культуры, не санкционированной Богом. Его «камень» – это вечное постижение собственной «existence», «сущности», в эпоху, когда «Бог умер», и Человеку нет иного оправдания, кроме как в самом себе. Вспомним горьковское: «Всё – в Человеке, всё – для Человека!» Если не воспринимать эти слова как бравурный девиз, то обнажится их страшный смысл: если все оправдание только в Человеке, а он смертен, значит, жизнь бессмысленна? Да, отвечает Камю, жизнь бессмысленна, но в том-то и заключено высшее достоинство Человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность жизни.
То, что Камю понимал как трагическую проблему, которая не может иметь решения, ибо Сизиф вечно обречен катить камень в гору, в поэме Горького представало апофеозом гордого человека, который не просто один во Вселенной, «на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства», не просто «мужественно движется– вперед! и– выше!» (вспомним Сизифа), но и обязательно придет «к победам над всеми тайнами земли и неба».
Однако в конце собственной поэмы Горький противоречит себе, так как объявляет, что «Человеку нет конца пути». Но если конца пути нет, то и побед над всеми тайнами земли и неба не будет, и надо либо признавать бытие Божье и непостижимость Его для Человека, как сделал это праведный Иов, либо уходить, как Камю, в разумный стоицизм: Бога нет, и жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, не сходящий от этого с ума и даже способный творить, пока существую.
Если бы Леонид Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов – Габриеля Марселя, Альбера Камю, Жана Поля Сартра и других, чье творчество Андреев, как и Горький, во многом предвосхитил, возможно, его мятущийся ум нашел бы какую-то опору. Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Льва Толстого, которые, как мы знаем, привели его к атеизму и нигилизму, а также на мыслительные и духовные поиски своего друга – Горького.
Вот почему он с жадностью прочитал в первом сборнике «Знания» «Человека» Горького и немедленно пылко и сочувственно отреагировал.
Это сочувствие тем более трогательно, что, во-первых, на «Человека» обрушились практически все, а во-вторых, в поэме была не просто полемика со взглядами Андреева на Человека и Смерть, но и прозрачное отрицание Андреева как возможного соратника Горького.
Поэма «Человек» ошеломила даже благоволящего к Горькому В.Г.Короленко. Чуткий художник, защитник униженных и оскорбленных, Короленко почувствовал в философии Горького страшный разрыв между новым гуманизмом и человечностью. Это было уже и в ранних рассказах Горького, и особенно в пьесе «На дне», но там ответственность за свои речи брали на себя персонажи, а здесь?
Короленко впервые (Толстой почувствовал это раньше, познакомившись с «На дне») понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый философский и, если угодно, религиозный лидер.
«Подлинный Человек, – писал он в «Русском богатстве», – не противостоит человеку и человечеству, а состоит «из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих в совокупности представление о величии всё совершенствующейся человеческой природы».
«Человек» г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, – есть именно человек ницшеанский: он идет «свободный, гордый, далеко впереди людей (значит – не с ними?) и выше жизни (даже самой жизни?), один, среди загадок бытия…» И мы чувствуем, что это «величание», но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества; ницшеанский «Человек» г-на Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый – сама жизнь, второй – только фантом».