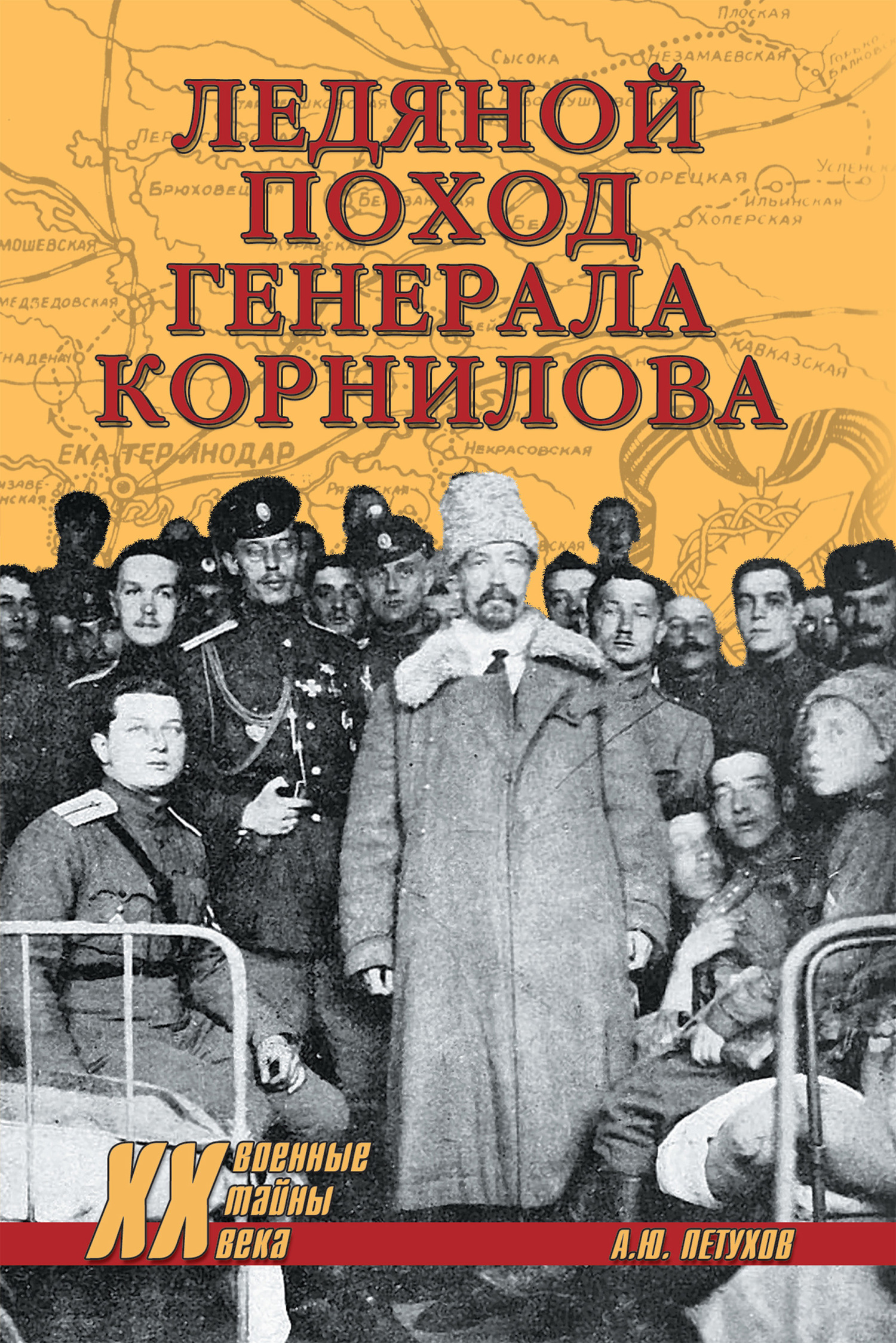молчала – на всё про всё у неё оставалось 30–40 снарядов. Из-за отсутствия боеприпасов, оставили только 6 орудий, а остальные штаб приказал бросить, предварительно сняв с них замки и прицелы. Кроме того, произвели перераспределение мест в лазарете, и всех способных держать оружие выздоравливающих направили в строй. Беженцам оставили по одной подводе на 6 человек, остальные порубили. В результате обоз урезали на 200 повозок. Упразднили полковые оркестры. Музыкантов отправили на пополнение поредевших строевых рот, а музыкальные инструменты полетели в канаву, в грязь.
– Драпаем ведь, к чему нам медные трубы? Драпмарш, что ли, играть?.. – шутили любители мрачного юмора.
Генерал Деникин принял решение с наступлением темноты прорываться на станицу Дядьковскую, при этом следовало перейти железную дорогу у Медвёдовской.
Армия таяла на глазах. Если к началу штурма Екатеринодара в её рядах насчитывалось более 6000 бойцов, то в Гнадау пришло меньше 3000, причём почти половину из них составляли раненые. Наибольшие потери понёс Корниловский полк. В нём осталось едва 100 [59] человек, которые полковник Кутепов свёл в две роты и лично управлял ими, когда части 2-й бригады останавливали движение пехоты красных на Гнадау. Офицерский полк за Екатеринодарскую операцию [60] потерял около 50 % личного состава – в строю находилось не больше 400 [61] человек. 1-я Инженерная рота имела в своих рядах 80 человек. Конница тоже потеряла не меньше половины кавалеристов. В то же время, по данным разведки армии, противник стянул к Екатеринодару от 40 000 до 50 000 штыков и сабель. Однако, несмотря на огромное превосходство в живой силе и артиллерии, при неограниченном количестве боеприпасов и продовольствия и при поддержке бронепоездов, находясь в обороне, красные одними ранеными потеряли до 10 000 человек.
Крайне тяжёлое положение армии заставило главнокомандующего отдать распоряжение полковнику Григорьеву и ротмистру Арону предать земле тела генерала Корнилова и полковника Неженцева, которые к тому же подавали признаки разложения. Гробы тайком вывезли в поле за околицу. Когда ротмистр Арон нарисовал план местности, первым для рытья могилы взял в руки лопату корнет Хан Хаджиев, затем по очереди продолжили скорбную работу все чины текинского конвоя. Опасаясь актов вандализма со стороны красных, после погребения могилы заровняли.
Пристрелявшись, батареи красных безнаказанно засыпали шрапнелями и гранатами маленькую колонию. К вечеру артобстрел стал ураганным, превратившись в форменный расстрел, поскольку втиснутая в единственную улицу Гнадау армия представляла собой компактную цель.
Обоз и многие строевые части охватила жуткая паника. «Повозки опрокидываются, раненые вываливаются на дорогу, через них бегут, едут, скачут… – вспоминал тот день И. А. Эйхенбаум. – Вот пушка переехала разом двоих. Охи, истошные крики, револьверная стрельба для восстановления порядка, револьверная стрельба для прекращения мук и страха… Стреляют и в лошадей (не только пристреливают), и друг в друга, и в ездовых… Оглобли, лошади – в крови; колёса в мозгах, сплющенные грудные клетки, по которым проехали и ещё едут пушки, у забора часть головы с развороченной челюстью, плечо с погоном…» [322]
Уставшие морально и физически, полуголодные, потерявшие всякую надежду на спасение люди поддавались самым нелепым слухам. Например, при участии матроса Баткина в частях распространялся слух, что генерал Романовский посылает к красным делегацию с просьбой пропустить армию за выкуп. «Уже все говорят о сдаче, передаются нелепые слухи. Раненые срывают кокарды, погоны, покупают, крадут у немцев штатское платье, переодеваются, хотят бежать, и все понимают, что бежать некуда и что большевики никого не пощадят. Трогаются без приказания подводы. Лица взволнованные, вытянутые, бледные. “Да подождите же! куда вы поехали!” – кричит раненый, ослепший капитан. Он побежал за подводой, споткнулся о бревно, с размаха падает, застонал. Его подымают: “вставайте, капитан”. Не встает, молчит… “Разрыв сердца”, – говорит подошедший доктор» [323]. Кроме того, поговаривали, что черкесы уходят в горы.
Раненный осколком гранаты в живот лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка полковник Яковлев в отчаянии пустил себе пулю в лоб. Глубина падения духа была такова, что стрелялись не только больные и раненые, но и среди здоровых несколько человек поставили точку в своей биографии.
Ещё одной приметой всеобщего развала стали праздношатающиеся группы добровольцев. Одна из них человек в 20, в поисках пива заполнила двор дома с пивоварней, где размещался штаб армии. Полковник Булюбаш получил приказ от командира Корниловского полка очистить штабной двор от посторонних. Не имея возможности применить силу, он тайком спустился в подвал дома и перерезал кишку, по которой подавался наверх хмельной напиток. История эта выглядит комично и могла бы быть смешной, если бы не была такой грустной, ведь в той нервной обстановке любой конфликт легко мог перерасти в вооружённое столкновение.
После полудня в течение 5–6 часов в штаб одно за другим поступали тревожные донесения. Наибольшей степени разложения достиг обоз, но и строевые части разъедала ржа паники. «Получаю, например, донесение, что один из полков конницы решил отделиться от армии и прорываться отдельно… – вспоминал один из самых тяжёлых дней похода А. И. Деникин. – Что организуется много конных партий, предполагающих распылиться… Входит бледный ротмистр Шапрон, адъютант Алексеева, и трагическим шепотом докладывает, что в двух полках решили спасаться ценою выдачи большевикам старших начальников и добровольческой казны…» [324] Люди теряли самообладание. Получив недобрые вести, сводный офицерский эскадрон по собственному почину прибыл для охраны генерала Алексеева. Генерал Деникин от личной охраны отказывался, но полковник Тимановский на всякий случай приблизил к штабу армии надёжную 4-ю роту Офицерского полка и выставил караулы.
Несмотря на угрозу полной катастрофы и атмосферу развала, генералы Деникин и Романовский сохраняли хладнокровие и, сплотив вокруг себя офицеров штаба, разработали план прорыва армии из клещей войск И. Л. Сорокина.
Выходить при свете дня через узкую горловину из окружённой болотами «гнадауской бутылки» означало раскрыть свои карты и навлечь на себя ещё больший артиллерийский огонь, но и оставаться надолго в колонии было невыносимо из-за губительного артобстрела и возросшей паники. К тому же заложниками ситуации стали и жители колонии, подвергая опасности свои жизни и имущество.
Никогда ещё армия не была так близка к разгрому, как 2–3 (15–16) апреля. Многие добровольцы считали, что её распыление – вопрос 2–3 дней, а возможно, и нескольких часов. На стороне красных была сила – огромные людские и материальные ресурсы. Революционная власть укрепилась на огромных территориях. Даже командование армией допускало, что в случае неудачи придётся хотя бы на время склонить перед врагом знамя борьбы, трёхцветное национальное русское знамя.
Для спасения добровольцам, как воздух, необходима была победа. Будет победа, но воистину – перед рассветом сумерки сгущаются…
Глава вторая
Бой у станицы Медвёдовской. Подвиг генерала Маркова
В ожидании сумерек время словно бы остановилось. Ещё засветло, около 19 часов армия пришла в движение.