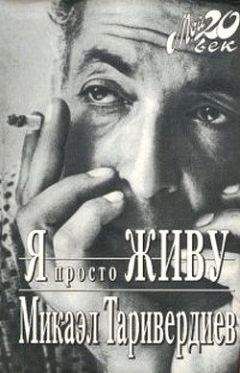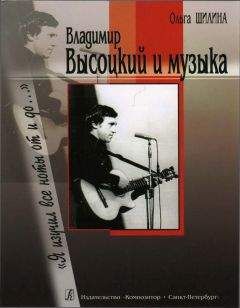Мы не успели сделать последнюю главу. Поэтому мы ее делаем. Только теперь от моего лица.
Еще в детстве мне казалось, что со мной должно произойти что-то необыкновенное. Нет, не казалось — я была уверена, что это произойдет. Я всегда ждала ЭТО, сама не зная что. А может быть, зная, что это что-то, что у взрослых называется «любовь». Иногда я неслась, боясь опоздать, как будто знала куда. Неслась сломя голову, не опасаясь за то, чтобы она осталась целой. Я правда никогда ничего не боялась. Я не знала чувства страха. Я пронеслась через детство, через Гнесинский институт, через увлечение старинной музыкой. Из медиевистики — изучения старинных манускриптов XIII–XIV веков — я попала в газету и во взрослую жизнь, где был маленький ребенок, интересная работа и муж. К браку я довольно скоро стала относиться как к неизбежному злу. Брак он и есть брак. И я понеслась дальше.
В то утро я оказалась в Зале Чайковского. Никаких предчувствий у меня не было. Хотя именно тогда, в тот год «нервы были обожжены». Потом, много позже я определила это ощущение — ощущение себя в невесомости. Которое дает музыка Баха, Моцарта. Которое вдруг возникает после сильных переживаний. Или — трагических, или — радостных, но к которым всегда почему-то примешивается ощущение неизбежности утраты. И ты летишь, летишь, но только в невесомости. Внутри все натянуто так, что ты даже не ощущаешь этого натяжения.
* * *
В Зале Чайковского идет репетиция вечернего концерта. В первом отделении исполняется скрипичный концерт, во втором — кантата «Доктор Фаустус». Во втором — Шнитке, в первом — Таривердиев. Я была из страны непуганых идиотов. Мои родители (это отдельные семьи, где и мама и папа университетские профессора) по принципиальным соображениям не покупали телевизор. Фильмы «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы» мы, конечно, смотрели. Специально ходили к друзьям. Вообще-то мама считала, что иметь телевизор дома вредно. И Микаэл Таривердиев начался для меня со скрипичного концерта, с оперы «Граф Калиостро». Нет, все же не совсем так. Я помню вечер в Крыму. Мне тринадцать лет. Я сижу на берегу моря в пионерлагере «Артек». А из радиоприемника вдруг раздается голос: «Кто тебя выдумал, звездная страна?..». Песня о Маленьком принце. Чья музыка? Я об этом не задумывалась. Мне просто хотелось плакать…
Большинство ломится на этот концерт, да и на репетицию тоже, из-за Шнитке. Сценарий шумихи продуман умело: заранее заявлена Пугачева, да еще в партии Демона обольщающего. Потом пошел слух, что то ли ей запретили петь, то ли она отказалась, то ли не справилась с партией. Но аншлаг был обеспечен. Билетов не было. Прессу пригласили на репетицию. Шел фестиваль «Московская осень». Накануне состоялась премьера двухчасового «Приношения» для органа Родиона Щедрина. И мне нужно подойти к Микаэлу Таривердиеву с вопросом: не согласится ли он написать об этой премьере для газеты «Советская культура», где я тогда работала.
Вот так я к нему подошла. Он ответил, что, возможно, напишет, но даст ответ вечером, после концерта.
— А у меня нет билета, — так мы познакомились.
Мне был выдан билет. Билет на тот рейс, которого я ждала. Билет на полет в невесомости, где есть дата вылета, но нет точки приземления. У взрослых, кажется, это называется любовью. Но мы не были взрослыми.
Шли репетиции «Графа Калиостро» в Камерном театре. Микаэл Леонович увлечен театром, постановкой — музыканты встречают его с восторгом. Маша Лемешева, уже через несколько лет после премьеры, с некоторой ревностью сказала:
— Когда я пою Прасковью Петровну, мне жаль только одного, что завтра ее будет петь другая певица.
В перерыве между репетициями вокруг него собираются все, кто только есть в театре. Он притягивает к себе как магнит. И выделяется в любой компании. Он особый, особенный. Не такой, как все, отдельный. Как человек, как музыкант. Его музыка не вписывается ни в какие привычные рамки. Она узнаваема с первых тактов. Это очень хорошо понимает тот же Родион Щедрин. «К его музыке нельзя подходить с обычными мерками», — говорит он. К нему как к человеку — тоже.
Для меня его музыка стала идеалом современной музыки вообще. Мне близки в ней те каноны классики, которые он на свой, современный лад воспроизводит, «оживание» в ней тех жанров, которые, казалось бы, уже давно канули в Лету — например, мадригалов (иначе и не назовешь многие его вокальные вещи, которые называются то песнями, то монологами, но по сути это современные мадригалы), какое-то удивительное чувство слова и поэтичность всего, что он делает. А комические оперы на современный сюжет! И постоянный спор со всеми вокруг: серьезная музыка может быть интересной! Опера должна быть захватывающей! На эстраде может звучать хорошая поэзия! Авангард давно уже не авангард! Он спорит со всеми. И в том числе с самим собой. Но, главное, его музыка дает то ни с чем не сравнимое ощущение невесомости, которое возникает неизвестно из-за чего и непонятно почему.
* * *
«Калиостро» еще репетируют. А он уже думает о другой опере — о «Путешествии дилетантов» по роману Окуджавы.
Я тогда еще не читала этого романа. И мне странно, когда он, открывая мне дверь, говорит:
— А вот и господин ван Шонховен пришел. И армячок у него есть.
У меня и впрямь была вышитая дубленка, которых по Москве тогда ходило очень много.
Вскоре я прочла этот роман. Тогда он вышел отдельной книгой в сером переплете. И подумала, что у меня, наверное, все-таки другая роль.
— Господибожемой, — любимая моя фразочка. Я прямо так и вздрагивала от этого рефрена Александрины. Но не мы распределяем роли…
Мы придумали свой мир. И закрыли его тайной. Нам было так хорошо! У нас даже Новый год свой. Еще когда мы не могли его встречать вместе, 31 декабря мы переводили все часы в доме на четыре часа вперед. Ставили видеопленку «Иронии судьбы», подгоняли бой курантов в фильме к этому же времени. И наступал Новый год. Это и был настоящий Новый год.
Впервые я вышла «на свет Божий» в Сухуми. Ашот, водитель катера из сухумского Дома творчества «Лилэ», договорился со своим братом, что мы поживем в его недостроенном доме на окраине города, у маяка. Из московской слякоти я прилетела в теплую нежную ночь. Октябрь, угасающее абхазское лето. Маленький блестящий одинокий баклажан в огороде. Полосатые матрасы, привезенные из Дома творчества. Солнце по утрам бесцеремонно заглядывает в окна без занавесок. Мы больше не хотим и не можем расставаться.
У него всегда было два мира — один для публичной жизни, которую он все меньше любит и от которой все больше отгораживается. Его большие очки, без которых он чувствует себя раздетым, тоже своего рода защита. Другой мир, свой, тщательно оберегаемый и мало кому известный, в который вхожи очень немногие люди. Единицы. Даже родственников он выбирает себе сам. Миру Салганик, с которой дружит много-много лет, называет своей сестрой, из-за чего возникает масса недоразумений.