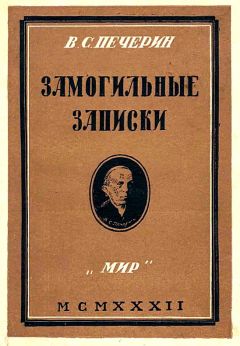В архивах ордена, в отчете о деятельности Печерина в Англии и Ирландии, отмечено, что вернувшись в Кингстон, он «был так преисполнен радости, коснувшись ирландской земли, что схватил на руки первого попавшегося оборванного мальчишку и горячо его обнял» (Мак-Уайт 1980: 141). В пасхальное воскресение Печерин произносит «славную проповедь о Риме и папе», что зафиксировано его начальником в отчете церковным властям (Мак-Уайт 1980: 141).
Как будто не он записал на клочке бумаги всего неделю назад:
О Рим! – Как я тебя ненавижу! Я повторяю слова св. Альфонса: «Мне кажется, что до того момента, как я смогу покинуть Рим, пройдет тысячелетие: как не терпится мне избавиться от всех этих церемоний!» О Рим, мне милее убогие лачуги наших ирландцев, чем все твои пышные дворцы. – О, Рим! Я ненавижу тебя: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь пренебрегают заботой о душе и думают лишь о том, как возвыситься и преумножить доходы; здесь живут только для себя (РО: 294).
После возвращения из Рима признаки кризиса стали очевидны и для его руководителей. Они замечали, что «свойственный ему пламень и былая энергия его оставили», и сам он жаловался на усталость о. Гагарину в письме от 1 июня 1860 года. Его начальник о. Свинкельс постоянно слал жалобы на Печерина генералу ордена о. Морону. О. де Бюггеномс, живший с Печериным бок о бок в Фальмуте, видимо, достаточно хорошо знал русский период его жизни – в своих воспоминаниях он говорит о «ненависти к тирании и безбожии, посеянных в сердце Печерина еще в детстве гувернером», и замечает, что восхищаясь его добрыми качествами и добродетелью, он «всегда опасался, что Печерин может оказаться жертвой либерального энтузиазма, не видя, что подлинна только та свобода, что лежит в основании церкви» (Мак-Уайт 1980: 142). Трудно предположить, что он не делился своими опасениями с церковным начальством.
Еще одно стороннее свидетельство того, что в конце пятидесятых годов обстановка в ордене изменилась по сравнению с началом десятилетия, и что не один Печерин был недоволен новым руководством, находим в письме близкого к делам ордена современника о. Исааку Хеккеру, которого орден послал в Америку, где он основал конгрегацию Св. Павла:
Я полагаю, Вы знаете о том, что Печерин был вытеснен из ордена ограниченностью и политической нетерпимостью редемптористов.
(…) Он имеет подлинное призвание к религиозной жизни, но меня совсем не удивляет, что Ваша старая конгрегация, выродившаяся под управлением нового генерала [ордена] в нечто узкое и давящее, выдавила Печерина. Мы все здесь оплакиваем дух де Гельда и его героическое время (Мак-Уайт 1989: 142).
Великая жертва оказалась рутиной суеты, погружением в мелкие интриги и честолюбивые страсти собратьев, требованием заботиться о финансовой стороне дела. Как ни бескорыстны были миссионеры, но поддержание их общежитий, строительство и украшение церквей, возможность расширения пропаганды требовали деловых качеств, которых Печерин не имел и которые глубоко презирал. Он чувствовал, что пребывание в ордене противоречит тому мистическому зову, следуя которому он в него вступал. Он искал абсолютной отдачи себя высшей цели, но ничего возвышенного в чиновничьем исполнении предписаний церковных властей, утративших его доверие и уважение, не было.
Он чувствовал, что гибнет. Но как спастись? Как вырваться на свободу? И что такое свобода для него? Не крайнее ли ограничение, налагаемое на себя собственной волей? Печерин решил добиться разрешения на выход из ордена. Та неопределенная борьба на некоем поле битвы, где можно было найти желанную смерть, была возможна для него, только если местом сражения станет его душа, если ему удастся убить свои мечты, подавить мысль, направить все силы на преодоление «сверхчеловеческих трудностей», то есть он пытался совершить то, что для него было бы духовным самоубийством. По сути следуя русской пословице «клин клином вышибают», Печерин написал письмо верховному генералу о. Морону с просьбой о выходе из ордена редемптористов ради поступления в другой, самый суровый из существующих католических орденов – картезианский. Такое объяснение казалось единственно возможным предлогом для выхода из ордена.
Это письмо удивительным образом напоминает его послание к графу Строганову. Он принимает такой же тон доверительной искренности, так же прибегает к утверждению о предопределенности своего решения склонностями, сформировавшимися еще в детстве:
С самого детства я испытывал страстную любовь к истинной бедности, к бедности св. Франциска Ассизского. Я познал ее, я возлюбил ее, я испытал ее на себе перед поступлением в конгрегацию. Я не выношу ни прикосновения к деньгам, ни разговоров о них. Судите сами, что я должен постоянно испытывать, возвращаясь из исповедальни с карманами, полными денег (РО: 295).
Печерин рассказывает, что попал когда-то в конгрегацию из чувства послушания аббату Манвиссу, вопреки своему желанию уйти сразу в картезианскую обитель, где он был бы навсегда заточен в одиночестве и мог бы «полностью удалиться от мира, посвятив свою жизнь физическому труду, бдению, посту, постоянному молчанию и церковным песнопениям» (РО: 295). Сейчас же, в преддверии приближающейся старости, он испытывает «навязчивую необходимость иметь некоторый временной интервал между неупорядоченной жизнью и смертью» и посвятить оставшиеся годы жизни покаянию и подготовке к смерти.
Наши встречи для бесед, малые и большие, являются для меня постоянным предметом серьезных искушений. Обязательство встречаться дважды в день только для беседы является для меня невыносимой тяготой, – пишет Печерин генералу ордена. – Эти встречи не имеют никакой цели – ни научной, ни религиозной; в большинстве случаев они представляют собою бесполезные разговоры, за которые нам придется отвечать в день Страшного Суда.
Он рисует удручающую картину жизни, предназначенной престарелому отцу в конгрегации: «Это жизнь сравнительно спокойная и расслабленная. После того, как он выполнит обязанности, предписанные уставом (что делается быстро), что остается ему делать? Помолиться, перебирая четки, выслушать исповедь какой-нибудь богомолки да поговорить о политике во время бесед». Можно представить себе характер этих политических бесед среди выпускников семинарии в Мейнуте и чувства Печерина, не забывшего ни друзей по «святой пятнице» в Петербурге, ни встречи с Герценом, ни общения с высоко образованными о. Манвиссом и о. де Гельдом.
Так же как и письмо к Строганову, это длинное послание, выражая искренние чувства и подлинные мысли автора, очень продуманно. Орден редемптористов, сравнительно новый, был создан для активной миссионерской деятельности среди бедных; история ордена картезианцев берет начало в X веке, когда несколько монахов поселилось на горных кручах вблизи Гренобля, дав обет полного уединения и абсолютного молчания, в ожидании смерти посвятив свои дни непрерывной молитве и посту. С течением времени суровость их устава смягчилась, но, как заверял Печерин, картезианцы были «совершенно погребены в забвении своего одиночества», и только среди них он надеялся закончить свои дни. Про «неизреченные радости картезианцев», воспетые Жорж Санд, поселившей в его сердце мечту о картезианской обители, Печерин генералу ордена редемптористов писать не стал. Но зато он упомянул одну существенную деталь: орден картезианцев являлся «единственным, в который разрешается вступать любому монаху, не испрашивая предварительного разрешения у своего настоятеля» (РО: 296). Таким образом, Печерин проявлял надлежащее смирение и послушание, но давал понять, что мог бы уйти и без формального разрешения.