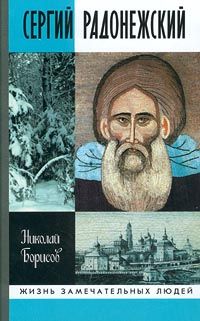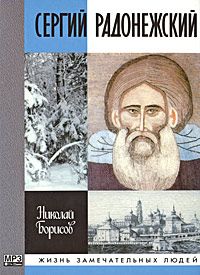Не давая себе передышки, Федоров приступил к работе.
За вырезкой пунсонов и застали первопечатника князь Острожский и князь Курбский, которому хозяин дома захотел показать, как готовятся шрифты.
— Вот пожалуй, князь! — сказал Острожский, распахивая дверь в избу Федорова.
Иван Федоров поднял усталые глаза на вошедших. Он работал у окна, на ярком солнечном свете, и не мог сразу разглядеть, с кем говорит Константин Константинович.
Наконец разглядел: вместе с Острожским порог переступил высокий сутуловатый муж с длинной седой бородой, с запавшими глазами.
Еще красиво было лицо этого человека, чем-то странно памятное. Какие-то давние, навсегда ушедшие волнения пробуждало. Но эти же волнения подсказывали: не такими должны быть черты его. Нет. Не такими. Горделивой уверенности и силы не хватало…
— Кречет! — прозвучал в ушах забытый голос Ларьки.
И тотчас возникли перед очами Тверская улица в перемешанном копытами снеге, разбойный свист, молодцы в алых шапках, всадники на гнедых конях, сжавшие тонкие губы, ни на кого не глядящие…
— Князь Андрей… — сказал Федоров. — Господи!
Невольная жалость прозвучала в его голосе.
Курбский вздрогнул, покоробленный. Все же гордость и мужество заставили князя улыбнуться.
— А, вот ты каков, дьяче! — промолвил он. — Слышал, слышал о тебе… Ну что? Не пропал на чужбине?
— Слава богу, жив, тружусь.
— Гляжу, от московского аспида последние людишки разбежались! — повернулся Курбский к Острожскому. — Некого скоро и казнить будет.
Федоров переложил на столешнице пунсоны.
— Я от царя обид не видел. Неверные слуги, не государь меня отъехать принудили.
Курбский нахмурился, но тут же совладал с собой.
— Иван и его холопы стоят друг друга.
Он коснулся руки Острожского.
— Где же твои шрифты, друже?
— Покажи свою работу, — сказал Острожский Ивану Федорову. — Греческие буквы покажи.
— Изволь, князь.
Федоров разложил по столу вырезанные пунсоны. Острожский брал их, передавал Курбскому.
— Изрядно! — должен был похвалить Курбский. — Этими и печатаешь?
— Нет, княже… Печатаю вот какими.
Горстка свинцовых литер рассыпалась рядом с пунсонами.
— Хитро! Изрядно! — повторил Курбский. — У кого выучился?
— У кого же здесь выучишься, князь? Чай, знаешь, как здешние мастера секреты берегут… Уж я сам. Своим умом дохожу.
— Полно, не бахвалься. В Москве ты у немцев дело перенял, да и тут, поди, книг начитался нужных.
— Думай, князь, как хочешь. Бахвалиться я смолоду не учен. А к тому сказать — не ведаю, чем наши русские мастера и в чем плоше иноземных когда были…
Курбский небрежно ссыпал литеры с ладони на стол.
— Всегда и во всем, — сказал он. — Но если ты сам всего достиг, хвалю.
Он опять обратился к Острожскому:
— Говорят, в Париже сделаны мельчайшие буквицы. Ты не видел парижских книг, князь?
Но Острожский немного обиделся на равнодушие приятеля:
— В Париже столь мелких не делают! Мой шрифт мельче, Андрей.
— Вряд ли… Надо написать, чтобы прислали оттуда книг. Посмотреть.
— Зря будешь писать! — возразил Острожский. — Что ж? Идем?
Острожский и Курбский ушли.
Федоров постоял, вздохнул, собрал шрифт, ссыпал в ящичек.
Покачал головой.
Опустился на скамью.
Взял в руки пунсон с начатой «гаммой».
Вгляделся.
Не отрывая от буквы взгляда, нашарил на столе резец.
Надо было снять излишек металла с левого завитка буквы.
***
Воротясь в излюбленные им Миляновичи, Курбский не находил покоя.
Вдобавок начали мучить старые раны и болезни. А с болезнями пришли мысли о близости кончины. Навязчивые, неотступные… Загадочная бездна, ожидающая за порогом бытия, ужасала Курбского. От нее нельзя было бежать, с ней нельзя было сразиться!
Не писаниями же и переводами мог князь спастись от исчезновения!
Но единственный сын, наследник имени, был давно зарыт в русской земле, вместе с материю расплатившись за побег отца в Литву.
Сын… Если бы у него был сын!
Теперь Курбский понял великого московского князя Василия, незадолго до смерти женившегося на молоденькой Елене Глинской, матери царя Ивана: не распутством был движим князь Василий! Жаждой продления бытия своего в потомстве!
— Зверь дикий и тот не лишен в детях радости! Ползучий гад и тот нежит чад своих! — шептал Курбский в ночной час перед иконами. — Пошто же, господи, унизил меня ниже зверя и гада? Пошто наказуешь раба своего сверх сил его? Пошто?
Мерцала лампада в золотой чашечке.
Звенела тишина.
Не было ответа князю…
В Миляновичи ранней весной 1579 года прискакал королевский гонец. Стефан Баторий звал князя Курбского готовиться к походу на Русь. К июню Курбский должен был прибыть во главе своих бояр, слуг, казаков и рейтар в главный королевский лагерь на Березину.
Боязнь, что он может не вернуться из похода, поторопила Курбского. Он решился жениться в третий раз, чтобы оставить наследника своему имени, своим замыслам и своим имениям.
Возраст и болезни не останавливали князя. Не остановило и то, что при жизни Марьи Юрьевны по церковным законам жениться он не имел права. Не остановило и смущение родственников девицы, избранной им в невесты.
Дети у князя еще могли появиться. Законы Курбский признавать не желал. А братья невесты были у князя в неоплатном долгу…
В апреле волынский город Владимир стал свидетелем пышной свадьбы князя с девицей Александрой Семашковной, шестнадцатилетней дочерью многодетного и небогатого старосты Кременецкого.
Заплаканная бесприданница во время свершения обряда еле держалась на ногах. Даже щедрое вено, заплаченное Курбским, не утешало ее.
Но Курбского не смущали слезы невесты.
Он отвез жену в Миляновичи и, прожив с нею в имении весь май, уехал в войско.
Установленный в одной из башен острожского замка печатный станок стучал всю вторую половину 1579 и всю первую половину 1580 года.
Иван Федоров, отлив новые шрифты и издав Новый Завет, теперь печатал Библию.
Новая книга превосходила размером ранее изданные.
В ней было более шестисот листов.
Количество выпускаемых книг тоже было неслыханным — более полутора тысяч штук.
Для украшения книги мастер вырезал новые черные заставки, фигурные буквицы, новые «узелки» — завершающие каждую главу орнаментальные гравюры.
Печаталась книга шестью различными шрифтами.