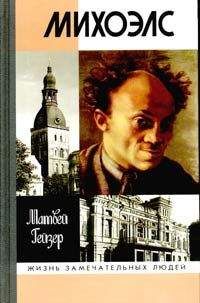К постановке спектакля «Тевье-молочник» Михоэлс приступил еще в 1937 году, сразу же после «Суламифи» и «Семьи Овадис». Инсценировку по книге Шолом-Алейхема написали И. Добрушин и Н. Ойслендер, оформление спектакля Михоэлс предложил И. М. Рабиновичу. Годы 1937–1938 — не лучшие для постановки этого спектакля, но Михоэлсу было к этому не привыкать. Михоэлс понимал, что без Вениамина III, Менделе Мойхер-Сфорима и Тевье Шолом-Алейхема еврейский театр, дающий спектакли на идиш, не выполнит своего назначения. Помнил он и о том, что ГОСЕТ, по сути, начал с Шолом-Алейхема, и без Тевье-молочника этот творческий союз окажется неполноценным.
Среди образов, созданных Шолом-Алейхемом, Тевье, по убеждению Михоэлса, — самый трагический и самый народный. Приступая к работе над ролью, Михоэлс учитывал и то, что к концу 30-х годов исчезло не только сочетание «черта оседлости», но и понятие «местечко» с его печальным юмором и нищетой, с его трудовыми буднями и тихими субботними вечерами, ушла навсегда философия его обитателей (то, о чем так прозорливо предупреждал Михоэлса молодой Юзовский еще в 1927 году).
В 1938-м, когда Михоэлс ставил «Тевье-молочника», он был убежден, что еврейский вопрос не может быть решен путем активной ассимиляции. Он знал в то время многих евреев, которые гордились тем, что забыли не только иврит — язык Библии, но и идиш. Нередко Ройтеры становились Красновыми, Зисеры — Сладковыми. (Что поделаешь — не все читают Шекспира, а он давно предупредил: «Крестя евреев, мы набиваем цену на свинину».) Михоэлс понимал, что если не поставить спектакль сейчас, то очень скоро не будет зрителей, которые смогут понять и воспринять философа из Анатовки, так ненавязчиво учившего окружающих мудрости веков.
«Да, образ Тевье глубоко народен, в его чертах мы узнаем облик народа, в его мудрости — мудрость народа. И поэтому столь органичным кажется оптимизм его финальной фразы: „Пока душа в теле, езжай дальше, вперед, Тевье!“» — писал Михоэлс в журнале «Огонек» (1938. № 35) незадолго до премьеры спектакля. И одна из главных мыслей, которую Михоэлс хотел донести до зрителей, заключена в словах Тевье: «Ибо что такое еврей и нееврей? И зачем им чуждаться друг друга?»
Кто только и как не пытался ответить на этот вечный вопрос! В 1916 году американский еврей, юрист по образованию, Мейер Сульцбергер в одной из своих публикаций заявил: «Евреи — это факт, и он нуждается в определении». Еще лаконичнее сказал немецкий поэт Готхольд Лессинг: «Еврей есть еврей». Вроде бы просто. Но Тевье задавал себе этот вопрос и мучился им. Ему вторили и Тевье-Михоэлс, и, много позже, Тевье-Ульянов, столь блистательно сыгравший эту роль в телеспектакле.
Михоэлс был уверен, что для того, чтобы евреи остались как нация, необходимо прежде всего сохранить язык и хотя бы элементы самобытной культуры. Поэт Семен Израилевич Липкин рассказывал, вспоминая об одной из своих встреч с Михоэлсом: «Однажды я спросил Соломона Михайловича, почему в репертуаре его театра нет спектакля о евреях, которые не знают языка, истории своего народа, то есть об евреях ассимилировавшихся, но не отрицающих не только своего еврейского происхождения, но и причастности своей к еврейству». Михоэлс не задумываясь ответил мне: «Эти люди меня не интересуют». Рассуждая сегодня о Тевье, явленном Михоэлсом, надо помнить, что спектакль этот ставился в той же стране и в ту же эпоху, когда снимался знаменитый кинофильм «Цирк», где рефреном проходила мысль: «за столом никто у нас не лишний». Правда, к тому времени подавляющее число евреев России уже считали своим родным языком русский, были закрыты еврейские школы (в Ленинграде последняя еврейская школа закрылась в 1937 году). Государство тем самым как бы отвечало на вопрос Тевье, что такое еврей и нееврей… Что такое еврей без языка, без традиций, не говоря уже об иудаизме.
Михоэлс, не раз во всеуслышание отрекавшийся от веры в Бога, исподволь, играя Тевье, воплотил мысль английского ученого Монтефиоре: «Израиль — народ религии». И еще, как ни покажется парадоксальным, путь к Тевье в значительной степени шел через «Лира». Приступить к постановке «Тевье-молочника» Михоэлсу в некоторой степени помогли и позволили два предстоящих юбилея: близилось 80-летие со дня рождения Шолом-Алейхема и 20-летие ГОСЕТа.
Что думал сам Михоэлс о Тевье? Вот отрывок из его интервью:
«Глава большой семьи Тевье борется с окружающей его тяжелой действительностью. Вырос Тевье в условиях старорежимной обстановки, где извне жизнь душила царская „тюрьма народов“, а изнутри — религиозно-патриархальный уклад. Дочери же росли, и через них стучалась в двери дома Тевье революция 1905 года, вторгались совершенно новые социальные идеи, строились новые формы отношений людей нового поколения. А у Тевье в запасе для объяснения так грозно надвигающейся на него действительности имелись лишь обломки старого еврейского, синагогального знания.
Но в глубине у Тевье мудрость народная. Постепенно он убеждается в том, что нельзя уложить все многообразие противоречий жизни в прокрустово ложе библейских изречений. Все ярче и отчетливее формируются в его мозгу новые понятия, входят новые представления о жизни, возникают новые мотивы поступков. Глаза его от неба переводятся на землю, где Тевье находит не отвлеченных, а конкретных врагов. Врагов своих, врагов трудового человека, врагов народа» (Декада Московского зрителя. 1938. № 34).
Какие расхожие слова для тех дней. И произнес их Михоэлс не в кругу друзей и даже не на репетиции, а для печати. Была ли необходимость Михоэлсу представлять Тевье этаким чекистом конца 30-х годов, который находит вокруг себя совершенно конкретных врагов, «врагов народа»?
Отдавал ли он себе в этом отчет? А может быть, решил, что бумага не краснеет?
Ответить на эти вопросы можно лишь зная истинное положение вещей. Негласным «куратором» и главным цензором ГОСЕТа, его «идеологическим направляющим» считал себя «главный еврей» страны Л. М. Каганович. Актеры, бывшие участниками и свидетелями работы над спектаклем, прекрасно помнили, как лихорадило театр, и говорили, что от той постановки, которую задумал и осуществил Михоэлс, к моменту премьеры если что и осталось нетронутым, то только замечательная музыка Пульвера и блистательные декорации Исаака Рабиновича. Вот что говорил на суде Вениамин Зускин: «Лазарь Моисеевич указал Михоэлсу на то, что он показывает евреев в таком уродливом состоянии. В 1938 году, когда эта пьеса („Тевье-молочник“. — М. Г.) была поставлена, она уже выглядела по-другому»…
В своем интервью Михоэлс произнес те слова совершенно осознанно, во имя спасения спектакля. К тому же играл Михоэлс в «Тевье-молочнике» нечто совсем иное.