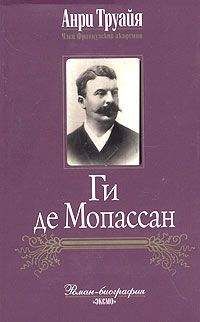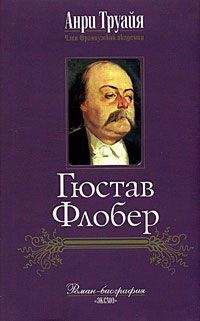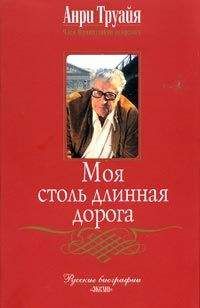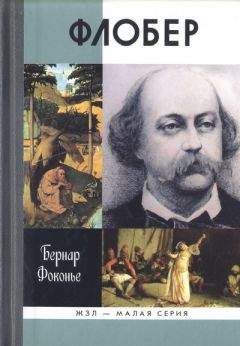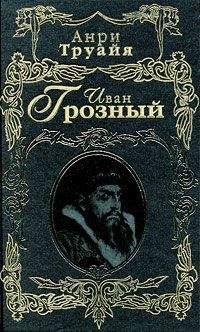«Я не понимаю, что такое физический стыд, но у меня преувеличенная стыдливость в отношении своих чувств, такая стыдливость, что меня волнует малейшее поползновение узнать о моих интимных переживаниях.
И если я когда-нибудь стану достаточно известным, для того чтобы любопытное потомство заинтересовалось тайной моей жизни, то одна мысль о том, что тень, в которой я держу свое сердце, будет освещена печатными сообщениями, разоблачениями, ссылками, разъяснениями, порождает во мне невыразимую тоску и непреодолимый гнев. Мысль, что станут говорить о Ней и обо мне, что люди будут судить Ее, женщины делать свои замечания, журналисты проводить дискуссии, что будут оспаривать, анализировать мои чувства, что снимут штаны с моей благоговейной нежности (простите это ужасное выражение, но оно мне кажется уместным), эта мысль повергает меня в яростное бешенство и глубокую печаль».
И уточняет в письме к другой анонимной корреспондентке:
«Я склонен думать, что у меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, то старое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать. А в мозгу у меня душа латинского народа, очень усталая. Бывают дни, когда я так не думаю, но и тогда я страдаю, потому что я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо умею скрывать. Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик, потому что у меня хорошие глаза. Мои глаза говорят сердцу: спрячься, старое, ты смешно! И сердце прячется».
Как раз в то время, когда Ги находился на вершине мытарств и смятений, Александр Дюма-сын пригласил его на обед у Дюрана, на площади Мадлен, рассчитывая прельстить перспективой избрания во Французскую Академию. Мопассан ответил с негодованием: «Я ни за что не соглашусь войти в состав компании, членом которой не был мой великий друг и учитель Гюстав Флобер».
Измученный шумом и гамом Парижа вкупе с донимавшими его мигренями, Ги ищет отдохновения в Экс-ле-Бен, потом – в Пломбьере и, наконец, в Жерердмере, где он встретился с Мари Канн. Пейзаж Вогезов, озаренный присутствием Мари, чаровал и успокаивал его. Он обожал эти зеленые склоны, эти подернутые дымкой горы, эту таинственную гладь озер, в которых отражались сосновые и буковые леса. «По всем склонам текут бесчисленные источники, потоки, ручьи… Словом, вода, вода и еще раз – вода, и она бежит, ниспадает, струится, журчит; каскады, реки под травой, реки подо мхами, самыми красивыми из всех, какие я только видел; повсюду вода, повсюду холодная, пронизывающая, легкая влажность от резкого воздуха этой возвышенной местности», – пишет он матери. Впрочем, вскоре он застучит зубами от холода: его замучает ревматизм, и улыбки Мари Канн уже не смогут отогреть его. Стоит ли строить куры женщине, когда все ваше тело – одна зияющая рана?
Ги надеется исцелиться в Этрета, но и в «Ла-Гийетт» холодно, как в ледяной пещере. Сидя перед камином, он предается отчаянию. «Меня снова одолели мигрень, слабость и нервное раздражение, – пишет он матери. – Стоит мне написать десять строк, как я уже вовсе не сознаю, что делаю; мысль утекает, как вода сквозь шумовку. Ветер здесь не прекращается, так что постоянно приходится поддерживать огонь». Иззябший, раздраженный, он даже подумывает о продаже этого дома, в постройку которого вложил столько любви. Дом, который так соблазнял его в молодые годы, теперь лежал на его плечах, точно бесполезный груз. Может, ему станет легче и он ощутит себя более свободным, когда порвет последние связи с прошлым?
Как бы там ни было, ему необходимо такое лекарство, как солнце. Известив своих верных морских волков Раймона и Бернара, он отправляется в Канны; один только вид «Милого друга-II» утешил его. Эта обычная в общем-то яхта казалась ему самой красивой из всей каннской флотилии. Вот какие исполненные лиризма строки посвящены этой «большой белой птице»: «Ее паруса из тонкого нового полотна бросали под августовским солнцем огненные блики на воду; они были похожи на серебряные шелковистые крылья, распустившиеся в бездонной голубизне неба. Три ее фока улетают вперед – легкие треугольники, округляющие дыхание ветра; главный фок, упругий и огромный, проколот гигантской иглой мачты, возвышающейся на восемнадцать метров над палубой, а грудь выдается вперед. Позади всех, словно спящий, последний парус – бизань». Он проводит на ее борту целые дни, бережно проводя ее по волнам; держит курс то в Сен-Рафаэль, где живет его отец, то в Ниццу, где на вилле, возвышающейся над бухтой Ангелов, живет мать с невесткой и внучкой. Несмотря на приглушенную озлобленность, царившую между Лорой, которая становилась все более деспотичной, и вдовой Эрве Марией-Терезой, которая не терпела пренебрежительного к себе отношения, Ги испытывал новое для себя наслаждение от игр с ласковой, смеющейся племяшкой Симоной. Думал ли он при взгляде на нее о троих своих внебрачных детях, которых Жозефина Литцельман воспитывала одна? Во всяком случае, он не испытывал угрызений совести – ведь он же поддерживал финансово эту уже более ничего не значившую для него женщину.
В сентябре и дни становятся все короче, и солнце светит все бледнее; так что, если хочешь погреть свои кости, отправляйся на юг. И вот Мопассан, сопровождаемый верным Франсуа Тассаром, садится на трансатлантический пароход «Герцог Браганский» (внося в каюту 12 сундуков, 8 чемоданов, 6 «совершенно необходимых» мешков, 18 всяческих пакетов – общим числом 44 места багажа!) и плывет опять в Африку. Но – не возраст ли тому виною? – он более не в силах выносить грязь харчевен, вонь кухонь и сутолоку толпы. Ни «фантастическое» представление, устраиваемое в его честь, ни танцы живота, исполняемые для него местными красавицами, ни красочное зрелище еврейской свадьбы, ни дефиле задумчивых верблюдов не могли примирить его со страною, первобытную прелесть которой он некогда воспел. Не песок ли пустыни, от которого непрестанно слезились глаза, был тому виною? Ему казалось, будто под веками у него катались горошинки перца. Он проводит несколько дней в Алжире, в Константине, в Оране, в Тлемсене и, разочарованный и изнуренный, мечтает только об одном: вернуться во Францию!
Едва вернувшись, Мопассан погружается в заботы, связанные с открытием памятника Флоберу в Руане: ведь он – секретарь комитета. Церемония была назначена на 23 ноября 1890 года. Чтобы воздать должное памяти Старца, нужно было, чтобы мероприятие обрело громогласный успех. Мопассан ударил в набат, скликая всех друзей покойного гиганта. После некоторых дипломатических колебаний Эдмон де Гонкур согласился выступить на торжестве с речью; со своей стороны, обещал приехать и Золя, но, не ведая обычаев, спросил Мопассана, как ему следует одеться. «Что касается вопроса, как следует одеться, то он совершенно ясен, – отвечает ему Ги с полной компетенцией арбитра в области щегольства. – Иные будут, конечно, во фраках, но, согласно светским принципам (выделено в тексте. – Прим. пер.) никогда не следует надевать фрак ни на завтрак, проводимый где бы то ни было, ни для церемонии в тесном кругу на открытом воздухе, как, например, вот эта».