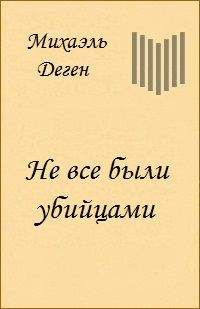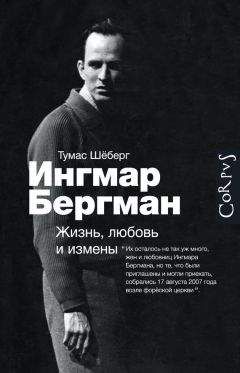Мать организовала все. В открытой легковой машине приехал Василий, и мы помчались в Вальдесру.
Редлих все еще сидел возле мертвого сына. Рядом с ним стояли его соседи. Они увидели нас, и их словно ветром сдуло. Бросив короткий взгляд на мертвого Рольфа, Василий перевернул его на живот. «У него внизу все разворочено», — сказал он.
По его приказанию тело Рольфа перевезли в Кепеник, в военный госпиталь.
Вернули его только через десять дней, и Редлих смог похоронить своего сына.
В той же легковушке мы вернулись домой. Редлиха мы тоже взяли с собой.
Василий поднял его с земли и почти донес до машины. В Каульсдорфе я уступил ему свою комнату, а сам перешел в комнату матери.
Редлих выходил из комнаты только в уборную. Остальное время он лежал на кровати, молча глядя в потолок.
Жена соседа-нациста, тоже нашедшая приют в нашем доме, по-матерински заботилась о Редлихе. Муж ее был арестован — его выдали бывшие соратники по партии.
«И зачем он рассказывал всем, что был постоянным собутыльником Геринга», — жаловалась она. — «Это возбуждает у людей лишь зависть».
На 9 мая 1945 года был намечен большой праздник в честь безоговорочной капитуляции Германии. По этому поводу русские задумали устроить на Александерплац грандиозный фейерверк. Об этом нам рассказал Василий.
«К сожалению», — прибавил он, — «у меня нет времени отвезти вас туда».
Он, наверное, и не мог этого сделать. Но мы решили обязательно попасть на праздник. Ранним утром следующего дня наша троица — мать, Мартхен и я — отправилась в путь. За главного в доме осталась фрау Риттер, а наша соседка-нацистка опекала старого Редлиха.
День выдался необычно жаркий. Дороги были пусты — ни одной машины.
Иногда проезжали, не останавливаясь, советские военные грузовики. О городском транспорте нечего было и мечтать. По пути к Александерплац какой-то прохожий рассказал нам, что снова, хотя и нерегулярно, ходят электрички. Однако вокзал в Лихтенберге, мимо которого мы проходили, был закрыт. Мы шли по Франкфуртераллее в направлении Штраусбергерплац. И чем дольше мы шли, тем сильнее ощущали знакомый, ставший уже привычным, сладковатый трупный запах, смешанный с запахами гари и кирпичной пыли.
Широкая когда-то улица местами была так сильно разрушена, что даже приходилось искать ее между грудами обломков и щебня.
Штраусбергерплац больше не существовала, и на какое-то время мы потеряли ориентацию.
«Александерплац должна быть где-то там».
Мартхен показала куда-то в западном направлении.
Мы перелезли через горы обломков и мусора и оказались на узкой улице, которую, видимо, уже привели в относительный порядок.
«Теперь я знаю, куда мы пришли!» — воскликнула Мартхен. — «Это, кажется, Мемхартштрассе. Она ведет прямо к Александерплац».
«Как же мы смогли вдруг очутиться на Мемхартштрассе? Она ведь находится по другую сторону Александерплац», — сказала мать.
Она прошла несколько шагов в противоположном направлении. Вдруг она поскользнулась и упала. Мы бросились к ней и помогли подняться. Мартхен стряхнула с матери пыль. Впрочем, мы выглядели немногим лучше. Тут я увидел, на чем поскользнулась мать. Это была перчатка, показавшаяся мне несколько странной. Я поднял ее. В перчатке была полуразложившаяся, отвратительно вонявшая кисть человеческой руки. Взглянув на содержимое перчатки, мать закричала, как будто ее резали. Испуганная ее криком Мартхен посмотрела на меня и на перчатку, которую я все еще держал в руках-. Ее тут же стошнило.
Вдруг мать побежала обратно. Нам с трудом удалось догнать ее.
Мартхен уже забыла о своей тошноте. Взяв мать под руки, мы осторожно повели ее назад, обогнули злополучное место и действительно вышли на Александерплац. Мартхен оказалась права, однако нам пришлось сделать изрядный крюк, прежде чем мы через груды обломков и щебня добрались до цели.
День уже давно перевалил на вторую половину. Мы уселись у каких-то развалин и развернули свои бутерброды. Солдатский хлеб был отвратителен на вкус, но нам очень хотелось есть.
И здесь я в первый раз увидел американца. С нашего места я прекрасно мог рассмотреть его. На голове у американца был белый шлем. Выскочив из джипа, он обнял проходившего мимо красноармейца. Его товарищи тоже вышли из машины и обменялись с русским энергичными рукопожатиями.
«Нехватает только, чтобы к ним подъехали эсэсовцы в парадных формах и белых перчатках и тоже приняли в этом участие», — подумал я.
«Мама, смотри, это американцы», — сказал я, указывая на «джип».
Обе женщины поднялись со своих мест, разглядывая машину.
«И в самом деле, американцы», — сказала через некоторое время Мартхен.
Неожиданно перед нами выросли русские солдаты и согнали нас с места.
«Немцам не положено», — усмехнулась Мартхен.
Мы смешались с толпой других зрителей. К сожалению, с нового места нам почти ничего не было видно.
«Жаль», — вздохнула мать. — «Место на развалинах было почти как ложа. Русские, оказывается, тоже антисемиты».
Мартхен, продолжая улыбаться, ничего не ответила. Мы увидели подходившую к нам фрау Плац, которая энергично махала нам рукой. Следом за ней шел Ганс Кохман.
«Регина и супруги Карфункельштейн стоят на другой стороне — оттуда лучше видно».
«Что, у господина Карфункельштейна ложа?» — спросила Мартхен. Фрау Плац засмеялась.
«Нет-нет, они тоже стоят».
Мать представила ей Мартхен. Фрау Плац по очереди обняла всех.
«Господи, да ты совсем не вырос», — сказала она, глядя на меня.
«Ты что, слепая?» — мать притянула меня к себе.
Фрау Плац смущенно обернулась к Гансу Кохману.
«В этом возрасте растут еще не так быстро», — попытался помочь ей Кохман.
Через толпу мы протиснулись на противоположную сторону.
«Ну, все уже позади», — улыбнулась нам фрау Карфункельштейн.
Ее муж рассказал, что на уличных фонарях вдоль Шарлоттенбургершоссе и Бисмаркштрассе до поворота на Адольф-Гитлер-плац висели трупы эсэсовцев.
Говорят, среди повешенных — семья Геббельса. «Сам я, правда, не видел, но есть очевидцы».
«Не может быть!» — воскликнула Мартхен.
«Мне говорили — есть очевидцы», — повторил Карфункельштейн. — «Там, должно быть, непереносимо воняет. Но русские запретили снимать трупы с фонарей».
«Вполне может быть», — согласился Ганс Кохман. Внезапно раздался громкий треск. В небе вспыхнули разноцветные огни фейерверка. На очищенной от обломков и щебня площади русские начали танцевать краковяк, приглашая товарищей по оружию танцевать вместе с ними.