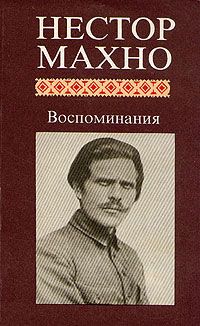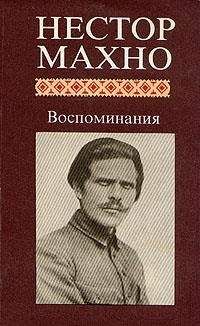29 мая 1937 года застрелился Ян Борисович Гамарник — старейший деятель украинского революционного подполья, лидер киевских большевиков периода острейшей борьбы с Центральной радой. В 1919 году — член Революционного Военного совета Южной группы, совершившей под командованием Якира героический поход по тылам врага.
Покончил с собой, вскрыв себе вены, философ античного мира Сократ. Во имя чести прибегали к харакири японские самураи. Но любое самоубийство осуждается коммунистической моралью. И тем не менее в тот год прибегали к нему многие большевики. И среди них далеко не рядовые члены партии: в феврале — Серго Орджоникидзе, в мае — Ян Гамарник. Да, человека так зажимают обстоятельства, что ему гораздо легче умереть, нежели жить!
Все же — почему Гамарник покончил с собой? Что? Боялся заслуженной кары за совершенное зло? Передавал военные тайны Гитлеру? Хотел свергнуть Советскую власть и вернуть власть капитала, как об этом говорилось в официальной версии? Нет! И XX съезд партии, и XXII отмели эти гнусные, бесстыдные наветы против того, кто, многократно рискуя головой, устанавливал Советскую власть. Значит, остается другое. А что? Гамарник со своего высокого поста видел, сколько уже «наломали дров» и сколько их еще будет наломано впереди. Он не давал санкции на снятие меня с бригады, он видел, как были брошены в тюрьмы заслуженные герои гражданской войны — Примаков, Шмидт, Туровский, Зюка, Саблин. И знал, что такая же участь ждет многих других. Не имея возможности приостановить разбушевавшийся черный буран сталинизма, как и Орджоникидзе, не захотел нести ответственности перед историей за уничтожение ленинской гвардии. И в то же время он не мог возражать против страшного поворота сталинского курса. Ведь тогда любое несогласие со Сталиным рассматривалось как несогласие с партией, с Советской властью, с народом.
Мог ли он, начальник ПУРа, позволить себе своим выступлением в защиту невинно осужденных внести разлад в армию, в партию? Нет! Ему было дорого единство партийных рядов. Но и отвечать за сталинский произвол он и не хотел, и не мог. Оставалось одно — покончить с собой. Выстрел Гамарника явился протестом против чинимого в стране беззакония.
У нас в танковой школе шли выпускные экзамены. Пришлось много времени проводить в классах, аудиториях. Вечерами работал дома. Писал статьи для «Красной Татарии», выполнял задание секретаря обкома Мухаметзянова, трудясь над антологией татарской прозы. Выстрел Гамарника взволновал меня, как и всех армейских коммунистов.
9 июня газеты сообщали, что командующим войсками Московского военного округа назначен С. М. Буденный. Ясно было, что в верхах идут какие-то крупные перемены. 12 июня, утром, я сидел за столом с матерью и сыном. После завтрака предстоял выезд на танкодром — там проводился экзамен по вождению.
Радио, передававшее отрывки из музыки Чайковского, ненадолго умолкло. И вновь в репродукторе зазвучал, на сей раз грозный, голос:
«Особое присутствие рассмотрело дело участников контрреволюционного антисоветского военного заговора — бывшего маршала Тухачевского...»
Кусок бутерброда застрял у меня в глотке. Это — новое! Значит, Гамарник — это еще не все! Тухачевский... Пензенский дворянин... Обиженный... Это он, встретив Шмидта в Наркомате обороны, сочувственно ему сказал: «Митя! Обижает нас нарком...»
Все это пронеслось в голове как молния... Радио продолжало: «...Якира»...
Я невольно вскрикнул. Мать переполошилась: «Что с тобой?» Злая тоска сжала сердце. Стало трудно дышать, закружилась голова... Не может быть! Якир... Член ЦК! Преданнейший сын партии, надежда наркома... «вождь Красной Армии!», как назвал его Ворошилов на банкете с турками. «Кость от кости, плоть от плоти рабочих и крестьян»...
Но обмана быть не может. И ослышаться я не мог. Радио ясно оповестило — «Якира». Словно сквозь сплошной туман, я услышал: «...бывшего командующего Белорусским военным округом Уборевича. ...Бывшего командующего Московским военным округом Корка... Примакова — бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом... Бывшего председателя Осоавиахима, бывшего начальника Военной академии имени Фрунзе Эйдемана... Бывшего военного атташе в Англии Путны... Фельдмана — бывшего начальника Главного управления РККА...» Всего было казнено восемь человек.
Какой потрясающий удар для нашей армии! И это в напряженные дни подготовки к борьбе не на живот, а на смерть со страшным врагом! Что им нужно было? Для чего они все это затеяли?
...Значит, Шмидт — это было только начало. Туровский и Примаков — продолжение. А завершение всего — Якир... Какой ужас! Ум не в состоянии постичь всего... Какой кошмар... Водоворот... И я, мечтавший лишь о творчестве, о работе во славу партии, Красной Армии, — в волнах этого водоворота!
Можно было отмежеваться от Шмидта! Обстоятельства свели меня с ним в Вышгороде. Но Якир! Я его уважал, чтил. Якир меня подымал и поддерживал. Пусть я не знал ничего о второй, изнаночной жизни Якира, но раз была причина, должно быть и следствие!
Мама замкнулась в себе. Она никогда не занималась самообманом и пустословием. Она знала, что молчание — это камень. Но тогда слова были тяжелей камней. Не было тех слов, которыми можно было бы заговорить проникшее в наш дом горе. Я только чувствовал на себе постоянный теплый взгляд ее наплаканных глаз.
После обеда, совершенно подавленный свалившимся на меня горем, я ушел из дому. Зашагал по направлению к Архиерейской роще. Не замечая ее изумительной красоты, пересек ее, вышел на опушку. Впереди находилось древнее кладбище. Направился туда. Обессиленный, опустился на густую траву, лег между выщербленных надгробных плит. Сердце рвалось надвое. Голова горела от напора противоречивых дум.
Я не таил ни в сердце, ни в уме никакого зла. Я был потрясен. Неужели возможно такое иезуитское вероломство? Много лет преклоняться перед величием витязя, а потом, в один день, в одну секунду услышать, что это низость изувера, а не величие витязя!
Какая-то непреклонная сила внушала мне гнев против Шмидта и тех, кто был причиной моих бесконечных бедствий. Какой-то голос нашептывал — они мечтали о потрясениях, а ты желал создавать. Они хотели смуты, а ты рвался к творчеству. Они готовились к схватке с партией, а ты — к схватке с врагом.
Сегодня мне говорят: «Якир изменник». А вчера я еще верил: Якир — это светлый человек. Где же тогда добродетель, а где порок? Где праведники, а где отступники? Где грань между добром и злом?
После Шмидта была Казань. После Якира будет казнь. Так думал я, мучительно переваривая последнее радиосообщение.