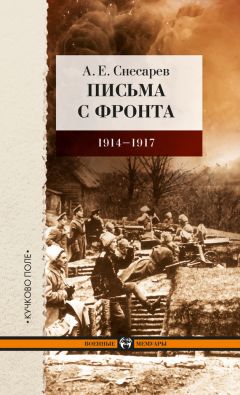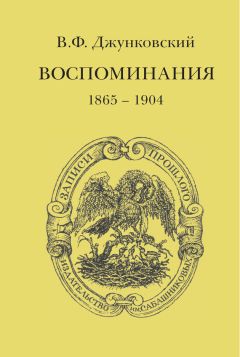Вчера, проездом через обоз, видел Галю и Ужка. Бестия выходит прелесть, что такое: большой, толстый, набалованный. Галя сейчас также очень хороша: выросла грива, глаза стали ясные…
Получил от тебя письмо от 19-го, с грустными нотами о Мэри. Устраивай-то устраивай, но особенно филантропией не увлекайся… она не молода, и ей пора и самой глубже вдумываться в жизнь. Я прихожу к заключению, что в жизни надо быть более экономным в деле сохранения своих добрых идей и настроений; природа нам дает все в обрез и ничего в излишке. Нельзя быть расточительным… это не всегда понимают, а часто и злоупотребляют. Вспомни нас с тобою; всегда ли мы получали правильное эхо на те звуки, какими мы дарили людей?
Я сейчас в свободные минуты читаю Пшибышевского «Homo Sapiens». В 1-й части герой (Фальк) отбивает невесту у своего закадычного друга, женится на ней, – друг стреляется; во 2-й части он едет на родину и почти насилует чистую девушку, мечтавшую давно о нем… девушка, узнав, что он женат, топится. В 3-й части начинается та же канитель, но уже в стиле Раскольникова. Герой бездельничает, ораторствует и фантазирует, систематически делая пакости. Что-то сумбурное, больное, но много фантазии, образов и хороший стиль. Большое подражание Достоевскому, но без его глубины и размаха.
Думаю о своей женушке я очень часто, вспоминаю 21 день и все нахожу, что в тебе есть какая-то перемена, а какая – сообразить не могу. Более крепкие и настойчивые убеждения… это несомненно, но что-то новое и со стороны физической, больше, сказал бы, стало в тебе женщины рядом с матерью, а прежде была мать прежде всего плюс не то женщина, не то девушка… впрочем, я и сам не знаю. Чего раньше не было, я часто вспоминаю такие интимности, которые раньше у меня выскакивали из головы навсегда. Кажется, я начинаю говорить глупости, займи мой рот, подставив свои губки и мордочку, а также нашу троицу, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
1162 еще не высланы… высылаются.
29 октября 1915 г.Дорогая моя женушка!
Сегодня я не пошел на позиции и сажусь писать моей маленькой девочке… впрочем, теперь уже не девочке, а женщине… К людям приехал ординарец моего полка, и там теперь идет разговор о положении дел; временами слышу большой смех. По-видимому, дело начинает налаживаться, и мой заместитель начинает слегка уразумевать свои обязанности и меняться… несколько; в какой мере он может.
О моем Георгии опять ничего не знаю. Была еще одна Дума, и пока еще неизвестно: или мой Георгий не прошел, или и эта Дума его не рассматривала. Скорее последнее, и не потому ли, что представление где-либо потерялось или застряло. Все это так долго тянется, что я уже перестал и реагировать. Я вижу перед собою такую массу в этом отношении и огорчений, и несправедливостей, что моя личная неудача кажется маленькой, совсем тонущей в море чужих неудач, ошибок и огорчений. Во всяком случае, когда узна́ю определенно, вновь буду искать.
Между прочим, я думаю, первое мое представление в генералы лежит, вероятно, в Главном штабе, и было бы очень хорошо, если бы оно было принято во внимание; когда будет мое второе представление пущено в ход… Мне не хотелось бы терять мое старшинство в чине, а именно, с 13 сентября 1914 года. Попробуй поговорить с Анат[олием] Иосифовичем, а еще лучше с г. Мучинком. В крайнем случае, если бы мое генеральство уже состоялось, я все равно потом войду с рапортом о моем старшинстве.
И все это, моя золотая цыпка, суета сует… что ни делается, делается к лучшему. Вчера на позиции я ездил с арт[иллерийским] подполковником, и он мне рассказал, как у него два раза дело не вышло с Георгием… И когда, говорит он, я написал об этом своей жене, она мне ответила: «Нам все равно, придешь ли ты, украшенный отличиями или нет, лишь бы пришел, а о том, что ты свой долг выполнял и выполнил, я – твоя жена – это знаю, и людской суд или его сомнения для меня пустяки…» Он передавал это мне с улыбкой, но под ее теперешним налетом я чувствовал много перенесенных горя и боли. «Да, теперь все позабыто и можно улыбаться», – бессознательно ответил он на мою догадку.
Чувствую сейчас я себя хорошо, и, видимо, моя нервная система приходит в порядок. Хотя мои дни и заняты полками, но бывают и промежутки, а ночи, во всяком случае, в моем распоряжении… Теперь я читаю очень много, и хотя, конечно, приходится читать то, что попадается в руки, но и среди случайного подбора попадаются вещи, если и не захватывающие меня сильно, то во всяком случае такие, с какими познакомиться не мешает… Напр[имер], я прочитал Гамсуна, Пшибышевского… как-никак, о них говорят много, и их популярность говорит о том, что вкусам, страстям и любопытству детей мира они умеют ответить… и если они странны, болезненны, непоследовательны и крайни, виноваты не они, а тот мир читающего люда, который ими интересуется и своим интересом их подогревает… Писатель, особенно модный, есть невольное зеркало людских страстей и увлечений. Кто может надолго оставаться «гласом вопиющего в пустыне»? В старину пророки, пустынники, Иоанн Креститель, а теперь?
Среди литературного жанра ко мне попала иная книга: «Всеобщая история евреев», 1-й том, С. М. Дубнова (начиная от Вавилонского пленения), и эту книгу я читаю не спеша. Автор, по-видимому, еврей, и это сильно вредит общей тональности. Я невольно при чтении книги вспоминаю мои разговоры в Каменце с управляющим нашего дома (забыл фамилию). Никто не спорит, что для бедной группы кочевников, идолопоклонствовавшей, распутной, грязной и дикой, еврейское законодательство было святым и возвышенным, но можно ли назвать его таковым безотносительно, таковым же для нас и для нашего сложного времени? А эту ошибку и делает на каждом шагу автор. Больше этого. Он отбрасывает умышленно наиболее грубые и темные места. Напр[имер], в замечательной песне «На реках Вавилонских мы сидели и плакали» он выкидывает самый сильный стих: «Блажен, кто возьмет детей твоих (т. е. дочери Вавилона) и головы их разобьет о камень». Бедный и узкий в своем еврейском ослеплении автор! Он думает, что сокрыл что-то слишком грубое и кровавое, вырвавши наиболее сильные строки, которые когда-либо знала мировая литература.
Моя золотая драгоценная женушка, я, кажется, заболтался и могу стать для тебя скучным, но это то, что просачивалось через мое сердце эти дни, сейчас я тебе это и выливаю. Не думай, моя радость и мое сокровище, что в моем сердце все заполнено только литературой и боевыми впечатлениями… там есть постоянный уголок для моей детки и наседки, и в этом уголке не стоячая вода, а вечно переливающаяся и волнующаяся влага… Я думаю о тебе так много, что иногда сам над собой рассмеюсь… более того, я стою все пред новыми и новыми вопросами, и это в момент, когда через две недели будет 12 лет [ошибка: 11 лет со дня венчания] нашей общей жизни. Я как-то, полушутя-полусерьезно, набросал в прошлом письме о твоем физическом изменении, а ведь я над этим перефантазировал немало, сидя ли в своей убогой халупе или блуждая по холодным окопам… Не смейся, моя ласковая, хотя соглашаюсь – тут немало забавного. Это письмо пойдет только завтра – случай впервые. Дай, моя голубка, твои глазки и головку, а также наших малых, я вас обниму, расцелую и благословлю.