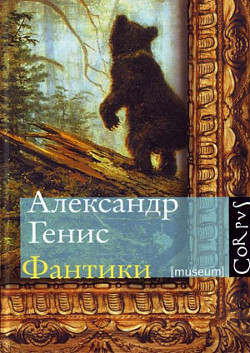остатка. То, чем пишут, становится тем, что написано. Орудие письма превращается в его результат, средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом.
Мало этого, написанная “мелом” “Школа для дураков” – особая, одновременная книга. Читатель здесь оказывается в положении рассказчика, который бродит, останавливаясь там, где ему заблагорассудится.
8 ноября
Ко дню рождения Кадзуо Исигуро
Всемь лет родившегося в Нагасаки мальчика родители отвезли в Англию, причем в провинцию, где он был единственным выходцем с Дальнего Востока. Его первые книги были связаны с родными, но незнакомыми краями. Роман “Художник зыбкого мира” напоминает “Мелкий снег” классика Танидзаки. Он написан по всем канонам лучшей японской прозы ХХ века. Ослабленная, почти незаметная сюжетность, педантичная точность описаний с вкраплениями импрессионистических деталей, углубленный психологизм и расплывающийся образ автора с несфокусированной точкой зрения на мир и собственный рассказ. При этом вся книга пропитана ощущением конкретного времени (довоенная и послевоенная Япония). Трудно поверить, что роман написан на английском языке. Японцы и не верят. Тамошние критики говорили мне, что подозревают Исигуро в лукавстве, когда он отказывается давать интервью на японском.
И все же назвать его английским писателем с необычной для этого острова фамилией тоже нельзя. По происхождению Исигуро – другой. Он всегда об этом помнит, ибо такой статус позволяет ему сохранить взгляд со стороны. Такой оптике мы обязаны появлению самой популярной книги Исигуро “Остаток дня”. Она строится вокруг оплота Альбиона – дворецкого. Того самого, без которого не обходятся наши любимые детективы из уютного прошлого. Но помимо внешних примет той ушедшей жизни Исигуро описывает внутренний и не слишком завидный мир своего героя. “Я много читаю, – объясняет он, – чтобы расширить свой словарный запас, полезный в общении с хозяевами”. Стертая, исчерпывающаяся верностью индивидуальность, готовность принести себя в жертву, снобизм слуги, перенимающего пороки и заблуждения хозяев, – все это складывается в одно понятие: долг, обожествление которого равно свойственно британскому дворецкому и японскому самураю.
8 ноября
Ко дню рождения Брэма Стокера
Для кладбища тут слишком оживленно, – не удержался я.
– А по нам – в самый раз, – ответил сербский прозаик, показывающий мне достопримечательности Воеводины.
Я не стал спорить, но не перестал удивляться, ибо повсюду шла стройка. Вокруг могил росли кирпичные стены, на крышах торчали антенны, к домикам тянулись провода, и двери запирал крепкий замок.
– У славян, – объяснил гид, – принято посещать могилы близких.
– …и выпивать на них.
– Вот именно. А чтобы спиртное не грелось, пришлось поставить холодильник, а значит, провести электричество и запереть двери. А чтобы их повесить, нужны стены и заодно, крыша: переночевать, если перебрал. А там – телевизор: по вечерам скучно.
– Дом, который построил Джек.
– Скорее – дача.
– На костях?
– Это как считать, – уклончиво ответил хозяин.
Я прикусил язык, вспомнив, что во время войны белградские газеты угрожали интервентам отрядом вурдалаков. Своим солдатам для безопасности обещали раздавать чеснок.
На Балканах покойники так долго были в центре внимания, что когда вампиры других стран перебрались из готического романа Брэма Стокера “Дракула” в кино, то здесь они остались на своем месте: на кладбище.
Мы ведь любим пугаться. Возможно, потому, что заложенный в наших генах страх потустороннего служит доказательством существования другой стороны. Древность этого инстинкта выходит за видовые пределы. Неандертальцы не только хоронили своих мертвецов, но и оставляли им букеты, составленные из специально подобранных цветов, далеко не всегда растущих поблизости друг от друга. (Палеоботаники сумели определить состав этой первобытной икебаны по сохранившейся пыльце.) Выходит, что мертвые важнее живых. Но если мы их так любим, то почему боимся?
10 ноября
Ко Дню борща
Как “ГУЛАГ” и “спутник”, “борщ” стал международным словом, но пользы он принес, конечно, больше, даже тогда, когда борщом, как это происходит в Америке, называют холодный свекольник или щавелевый отвар. Храня фамильную тайну, борщ не переводится на другие языки и никогда не надоедает. Я имею в виду – нам. С другими это бывает. Американский врач, полгода проживший на орбите с русскими космонавтами, жаловался, что вынужден был есть борщ уже на завтрак. Зато моя луганская бабушка считала день без борща напрасно прожитым, таких, впрочем, у нее и не было.
Следуя ей, вырвавшаяся из-под ига империи национальная фантазия признала борщ венцом украинского барокко – причудливого, богатого, витиеватого. Рецепт его, впервые попав на Запад из кулинарной книги Карема, занимает две страницы и требует скотного двора и птичника. Но и в самом скромном варианте борщ подразумевает не меньше двух десятков необходимых ингредиентов, к которым могут присоединиться (лишь бы не все сразу) незрелые яблоки, сушеные боровики и капуста кольраби. Способный, словно все то же барокко, переварить любые излишества и обойдясь без них, борщ останется собой до тех пор, пока не забудет секрета, известного только моей бабушке и остальным украинцам. Это растертый с чесноком ломтик старого сала со специфическим душком, который, повергая чужеземцев в ужас, украинцам заменяет рiдну хату.
11 ноября
Ко дню рождения Федора Достоевского
Тургенева и Гоголя, рассуждал я, отвечая на вопрос, кто написал самый русский роман, выносим за скобки. Первый – скучный, второй – наоборот, но у него смех – от черта, сюжет – от Пушкина и стиль – не русский, а свой. Пушкин – как будто писал европеец, вроде Вальтера Скотта. Да так оно, в сущности, и было, если говорить о фабуле, но не исполнении – у Пушкина в сто раз лучше. С Толстым не проще. Хотя “Война и мир” считается национальным эпосом, в книге действует европейская аристократия. (В салоне Анны Павловны Шерер, говорит Парамонов, можно встретить аббата, но не попа.) Другой кандидат – исконно русский Обломов, но не роман, а герой.
Остается Достоевский со своими “Карамазовыми”. Впрочем, у меня и с братьями – проблемы. Иван – схема европейца, Алеша – христианский идеал, Дмитрий – его обратная, но тоже хорошая сторона (в “Братьях Карамазовых”, как в ленте Мёбиуса, такое возможно). Достоевский, что постоянно случалось с нашими классиками, перестарался и вырастил из русских героев универсальных, наподобие Гулливера. Я, во всяком случае, таких не встречал. А вот папаша Карамазов сразу узнаваем. Если не корень, то пень нации. Он и мертвым не выпускает роман из рук – такова в нем жизненная сила, которую китайцы называют “ци” и ценят в древесных наростах. Герои ведь не бывают стройными. Темперамент закручивает их в спираль, словно для разгону. Особенно в России, где от власти самодуров уйти можно только дуриком. И бунт его страшнее, чем угроза Ивана: не террор, а хаос, не цель, а жизнь, не правда, а воля. Левая, темная, хитрая сторона души.
11 ноября
Ко дню рождения Курта Воннегута
Мои сверстники вряд ли удивятся, если я сравню Воннегута с “Битлз”. Мы находили у них много общего: свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор