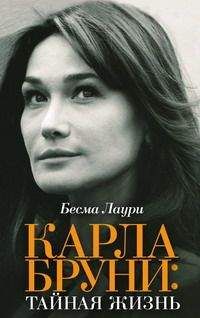И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.
Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик,
И пахло до отказа лавровишней!..
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен…
Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.
Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!
Из густо отработавших кино
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!
Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну.
– Изобрази еще нам, Марь Иванна!
Пусть это оскорбительно, – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови [231] .
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты…
В летней жаркой Москве бульвары «блаженствуют» в жарý; источник их заражения «черной оспой» – видимо, дом 25 на Тверском бульваре (Дом Герцена), при котором в начале 1920-х годов Мандельштамы жили, где помещалось руководство Федерации объединений советских писателей (ФОСП) и куда Мандельштам являлся многократно в связи с разбирательствами по делу о переводе «Тиля Уленшпигеля». Литературные чиновники и «разрешенные» писатели воспринимались Мандельштамом подобно больным опасной заразной болезнью, от которых надо держаться подальше. Ср. в «Четвертой прозе»: «Черная оспа / Пошла от Фоспа». Интересный комментарий к стихам 4–5 дает Д.И. Черашняя: «На Москву – ночью – из-под копыт – Ср.: “Разгрузка уличного движения Москвы <…> гужевой транспорт переходит на ночную работу <…> Состоявшееся вчера <…> совещание московских транспортных организаций выделило специальный штаб по переводу гужевого транспорта с дневной работы на ночную” (“Вечерняя Москва”. 1931. 3 янв. С. 2)» [232] . Бим и Бом – известные клоуны. В их музыке в стихотворении, по свидетельству Э. Герштейн, отразилась «ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама» [233] . «Самой природы вечный меньшевик» – несомненна связь этого образа с процессом так называемого «Союзного бюро меньшевиков», который проходил в Москве 1–9 марта 1931 года (замечено А.А. Морозовым и, несколько позднее, Д.И. Черашней). Вспомним, что стихотворение создано в тот период, когда Мандельштам постоянно бывал или жил в квартире, где соседом «брата Шуры» был видный в прошлом меньшевик, упомянутый выше Л.И. Гольдман (ни он, ни его брат, М.И. Гольдман, «Либер», фигурантами процесса 1931 года не были). Ученых медведей еще действительно водили по Москве поводыри-цыгане. С. Алымов в своем очерке «В кругу Москвы» (1927) рисует такую картину (имеется в виду Бульварное кольцо): «У густо населенных скамеек под музыку собственных криков выбивают голыми пятками чечетку коричневые цыганочки в широчайших юбках, подметающих землю длинными подолами. Изредка в кольце любопытствующей толпы покажется задержавшийся в городе медведь. Но летом медведь – большая редкость. Медведям душно в городе, и они уходят вместе с вожаками в приветливые поля, где прохладные ветры и мягкая трава, где вольготно и весело на раздольных крестьянских ярмарках» [234] .
Поводыри с медведями на бульваре
Дрессированный медведь уподобляется меньшевику неслучайно: его водят на цепи на показ и заставляют кланяться. «Миша» кланяется, но сказать он при этом, само собой, ничего не может. Поводыри заставляли медведей выполнять и следующий номер: «Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой (курсив мой. – Л.В.). Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему, в конце концов, схватить себя за лапу и свалить на землю» (Г. Андреевский) [235] .
«Выпьем, дружок, за наше ячменное горе» – очевидная перекличка с Пушкиным: «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей» («Зимний вечер»). Ячменное горе – не от дешевого ли ячменного кофе? Как сообщает Д. Черашняя, кусок упомянутого в стихах пледа был положен, по желанию Надежды Яковлевны Мандельштам, в ее гроб и похоронен вместе с ней. Другой, маленький кусок Н. Мандельштам подарила певцу Петру Старчику [236] .
Великие живописцы и Моцарт встречаются в утреннем летнем городе; «карий глаз» Москвы и ее «воробьиный хмель» привлекают и волнуют художника и музыканта. С бойким неунывающим городским крылатым жителем Мандельштам, как уже не раз отмечалось, чувствовал свое родство; «воробьиный хмель» отсылает читателя, конечно, и к одному из самых значимых мест в Москве – Воробьевым горам (об этом мы уже упоминали). Но почему у Москвы «карий глаз»? Хотелось бы найти объяснение этой детали, тем более, что в очерке 1923 года «Холодное лето» сказано: «…жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробьиным холодком в июле…». Разница во времени между написанием очерка и стихотворением «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (около восьми лет) не должна смущать: в сущности, как не раз говорилось, все творчество Мандельштама представляет собой единый текст, с многочисленными повторяющимися деталями и мотивами, то появляющимися, то уходящими на глубину и снова всплывающими в других контекстах. По нашему мнению, возможный ответ на вопрос о московской «кареглазости» можно найти, обратившись к другому мандельштамовскому очерку того же 1923 года – «Сухаревка».