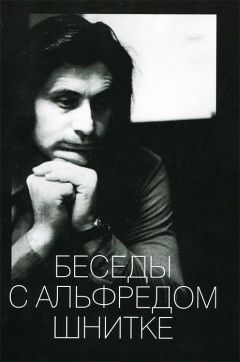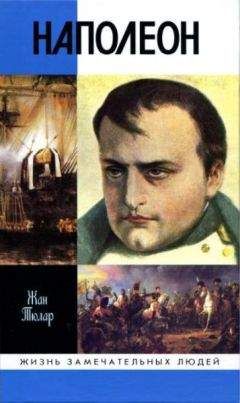...Как ты живешь сейчас, - спросил я Альфреда на следующий день после премьеры, - чувствуешь ли, что стал писать иначе, что твоя музыка, твои взгляды изменились под влиянием жизни в Германии?
- Моя жизнь, - отвечал он, - теперь в сильной степени окрашена инсультом, который у меня был. Я чувствую его последствия, к сожалению, очень сильно. Вместе с тем у меня появилось ощущение, что я стал быстрее писать. Могу судить по тем двум сочинениям, которые я сейчас уже написал в черновиках, - это Третья соната для фортепиано и Шестая симфония. В ту же секунду, когда возникает идея что-то сделать, это и делается. Потом я на полчаса или на час должен как бы выключиться. Я вспоминаю, что лет двадцать назад Д. Д. Шостакович (я это косвенно слышал, не мне он это рассказывал), находясь в Репино, скептически говорил, что вот, все, мол, сочиняют все время, а он - как-то не может, он может работать только пока пишет, а потом сразу выключается. Я подумал тогда, что он дурака валяет и издевается над всеми нами. А сейчас мне начинает казаться, что такое притворство, такое притворное сочинительство действительно существует у большинства людей, и, к сожалению, только у немногих есть истинное отношение. Таким образом, очень часто пишется не истинное сочинение, а сопутствующее, и оно-то больше всего времени и отнимает. А потом, когда оно уходит, остается дилемма: сочинять - или не сочинять. Сейчас многое для меня объясняется именно этой прямой дилеммой. Я не знаю как пойдет дальше... Я надеюсь, что буду сочинять...
Апрель 1992 г.
Выступления, статьи, заметки Шнитке
Многоуважаемые дамы и господа!
В истории человечества никогда не наблюдалось движения от худшего к лучшему. Но если бы не было надежд на улучшение, не было бы и самой жизни. Каждое из человеческих поколений стремилось - притом не с холодным сердцем, но в высшей степени настоятельно - наконец-то воплотить сокровенную мечту в жизнь. Иногда складывалось впечатление, будто это удалось. А затем все снова оказывалось лишь иллюзией. Однако без такого постоянного отодвигания в. будущее недостижимого в реальности исторического горизонта жить дальше было бы невозможно.
Первая мировая война поколебала всеохватный, гарантированный вроде бы на сто процентов оптимизм страстно ожидавшегося XX столетия -Серебряного века. И все-таки надежда еще сохранялась. Кто мог ожидать тогда второго удара истории, что унесет намного больше миллионов жизней, гибельного огня атомной бомбы и еще многого другого? Если сложить все человеческие жертвы, то наше столетие безусловно обогнало все предыдущие. Но насытилось ли Зло?
А между тем начало XX века обещало человечеству долгожданную надежность исторического маршрута. Войны, во всяком случае великие, казались уже невозможными. Наука вытеснила веру. Любые еще непреодоленные препятствия должны были вскоре пасть. Отсюда - холодная, спортивная жизненная установка на наиполезнейшее, равно как и одухотвореннейшее, в судьбах молодых людей, Прокофьева в том числе. Это был естественный оптимизм - не идеологически внушенный, но самый что ни на есть подлинный. Та многогранная солидаризация с эпохой и ее атрибутами - скорыми поездами, автомобилями, самолетами, телеграфом, радио и так далее, - что давала отрезвляюще-экстатическую, раз и навсегда достигнутую, точнейшую организацию времени, отразившуюся и в житейских привычках Прокофьева. А потому надвигавшиеся испытания - жесточайшие в истории человечества - еще долго будут восприниматься как трагическое недоразумение. Потому же оптимизм, ставший исходным жизненным пунктом, сохранился на всем дальнейшем пути, пусть и с неизбежной корректировкой повседневности. Недопущение сюрреалистических ужасов действительности, несгибаемость, внутреннее табу нa слезы, пренебрежение к оскорбительным выпадам - все это казалось спасением. Увы, спасение было иллюзорным. Еще более важная, невидимая, но существеннейшая часть спортивно-деловитой личности Прокофьева, столкнувшись с ложью, была жестоко ранена, но спрятала эти раны столь глубоко, что уже не могла от них избавиться, и они пресекли жизнь композитора на пороге 62-летия.
210
И все-таки Прокофьев был не из той породы людей, что гнулись под бременем эпохи. Правда, в его жизни нет примеров открытого сопротивления ритуальному театру истребления. Зато нет и уступок. Он принадлежал к числу тех, кто в самых ужасных обстоятельствах сохранил свое человеческое достоинство, не сдался на милость внешне всесильной повседневности. Он оказывал спокойное, но тем более стойкое сопротивление. Его поведение в различных ситуациях создает образ человека холодного, все заранее рассчитывающего, очень пунктуального и защищенного ироническим разумом от миражей современности (это подтверждают и рассказы знавших его, например, Николая Набокова). Свидетельств прокофьевской гениальности в организации времени много. И среди них лучшее -его наследие, которое вряд ли было бы столь обширным и столь высококачественным при так называемой нормальной жизни, когда композитор воспринимает возможность работать как редкий подарок. В этом человеке должно было ясно ощущаться динамическое взаимодействие поэтической сущности и делового образа жизни. Краткие письма, экономная манера письма со старорусским обычаем опускать гласные, преодоление собственныx кoмплeкcoв, для которых у него было более чем достаточно причин, как внутренних, так и внешних. Сдержанность в поведении, отказ от простых человеческих объяснений типа “Был болен” или “Не хотелось работать”. Он работал и в самый последний день своей жизни, 5 марта 1953 г.
Конечно же, он знал все. Знал и о том, что болен и не может надеяться на слишком долгую жизнь. Поэтому предпочел своевременно отказаться от выступлений в качестве пианиста, позднее и от дирижирования, чтобы сохранить время для композиции. И именно такая способность постоянно отказывать себе, отбрасывать заурядные псевдопроблемы публичной жизни, такое недопущение внешней действительности в свой дом, в свою душу, да, пожалуй, и в собственную музыку, такое избегание общественной деятельности дали столь внушительные результаты: творческое наследие из 131 опуса по большей части первоклассной музыки, что привычно скорее для XVIII столетия, пусть нелегкого, но несравненно более естественного, чем для нашей запутаннейшей современности с ее нескончаемым демагогическим представлением. Та вроде бы давно исчезнувшая реальность, что оставалась возможной разве что в стилизованной или идеализированной реконструкции неоклассицизма, у Прокофьева предстает естественной и своенравно-живой, как будто вовсе и не существует темной ночи настоящего! Этот человек видел мир иначе и иначе слышал его. Наверное, природа подарила ему иные основы и иные точки отсчета, чем подавляющему большинству людей. Темные бездны реального никогда не лишались в его представлении всепокоряющего солнца. Это абсолютно уникально. Кого можно с ним сравнить? Последнее произведение Прокофьева, Седьмая симфония, кажется, написана юношей. Она полна неисчерпаемой жизненной силы и несёт в себе нечто спонтанное.