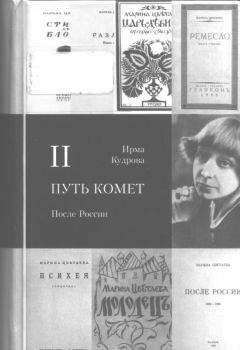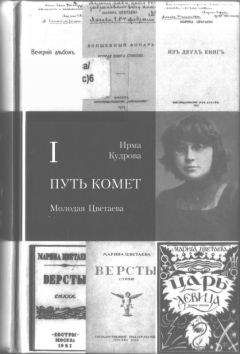Тому же автору принадлежит афоризм: «Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, снятая еще при жизни».
В деловых письмах Цветаевой теперь все чаще встречаются резкие, жесткие интонации, хлещущие, как пощечина, формулировки. Впрочем, не только в письмах — и в стихах:
Квиты: вами я объедена,
Мною — живописаны.
Вас положат — на обеденный,
А меня — на письменный.
.......................................
В головах — свечами смертными —
Спаржа толстоногая.
Полосатая десертная
Скатерть вам — дорогою!
.......................................
А чтоб скатертью не тратиться —
В яму, место низкое,
Вытряхнут вас всех со скатерти:
С крошками, с огрызками.
Каплуно́м-то вместо голубя
— Порх! душа — при вскрытии.
А меня положат — голую:
Два крыла прикрытием.
Она устала от унижений, от вынужденных разговоров с людьми, с которыми не хочется говорить даже о погоде, устала от вечного осуждающего шепота, шелестящего вокруг нее.
Осуждение ближних и уж особенно дальних сопровождает ее везде. Это закономерно: не может она нравиться тем, кто твердо, с рождения знает, как надо поступать и как не надо.
Ее осуждают за колючий неуступчивый характер, за чрезмерную любовь к сыну и чрезмерную требовательность к дочери, за мужа с его «просоветскими» взглядами…
При всей ее независимости она устала от этого постоянно сопровождающего ее жужжания. Настолько, что в одном из писем этой осени просит Тескову издали рассудить ее с обвинителями в одном из вспыхнувших конфликтов.
А это уж совсем на нее не похоже.
Она нуждается в поддержке, опоре, ободрении — так неодолимо подступает к ней временами последнее отчаяние…
Выпивая однажды в кафе за столиком свою чашечку кофе, она внезапно слышит обращенный к ней вопрос хозяина:
— Vous n’avez pas de gueules cassée?[12] — и ее вдруг поражает — словно прорезавшая небо молния — мысль, не приходившая прежде в голову. Вернувшись домой, она запишет в тетрадке:
«Я внезапно осознала, что я всю жизнь прожила за границей, абсолютно отъединенная — за границей чужой жизни — зрителем: любопытствующим (не очень!), сочувствующим и уступчивым — и никогда не принятым в чужую жизнь — что я ничего не чувствую, как они, и они — ничего — как я — и, что главнее чувств, — у нас были абсолютно разные двигатели, что то, что для них является двигателем — для меня просто не существует — и наоборот (и какое наоборот!)».
6
Тяжкий упадок духа переживает в середине тридцатых годов не только Цветаева.
Ходасевич-критик пишет о растерянности, усталости, анемичности, отразившихся в творчестве даже совсем молодых поэтов-эмигрантов; философ Федотов — о «чувстве, близком к удушению», посреди культурной пустоты, которая окружает русского человека на чужбине; Ремизов признается, что эмигрантское существование он ощущает как бессрочную и бессмысленную каторгу. К 1934 году относятся слова Рахманинова (в его интервью Камерону): «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя…» Бунин отказывается от покупки виллы на юге Франции, в Грассе, где он живет много лет, хотя присуждение ему осенью 1933 года Нобелевской премии делало такую покупку вполне возможной. Его удерживает единственная мысль: неужели так и не будет — России? Неужели обосновываться здесь навсегда?..
Один из парижских русских журналов напомнил этим летом читателю изречение Паскаля: «Человек живет вместе, умирает же всегда один». Напомнил, чтобы сопроводить грустной сентенцией:
«Но в эмиграции очень многие познают это смертное одиночество задолго до смерти. <…>
Наиболее могучие человеческие связи и узы — узы родины, семьи, быта — разорваны или ослабели до полного почти исчезновения…»
Десятого октября в Марселе совершено очередное политическое убийство, даже двойное: убит французский министр иностранных дел Барту и сербский король Александр, только что прибывший с визитом во Францию. Мотивы убийства неясны, убийцы не найдены.
Но среди русских пополз назойливый слушок, что и тут не обошлось без соотечественников, с той ли, с этой ли стороны границы: сербский король покровительствовал русским эмигрантам, а Барту выступал за сближение Франции и Советской России.
Так или иначе — призрак Горгулова оживает вновь.
Как и призрак ягненка, заведомо виноватого в мутности ручья…
Цветаева почти не читала газет, вряд ли отличала Даладье от Лаваля, тем более что правительственные кабинеты во Франции менялись в середине тридцатых годов с калейдоскопической быстротой. Но она прекрасно улавливала грозное направление происходящих в мире перемен. Погромы, расстрелы, концлагеря в Германии; фашистские мятежи, прокатившиеся в 1934 году чуть ли не по всем странам Европы; чернорубашечники в Италии, синерубашечники во Франции. Все это заставляло ее почти физически ощущать запах агрессии, разраставшейся в мире.
Русское зарубежье добавило свой пай в котел человеконенавистничества: в апреле того же 1934-го было подписано соглашение о создании «Всероссийской фашистской организации» со штабом в Харбине.
Этого факта Марина Ивановна, скорее всего, и не знала. Зато ее обостренное чутье отлично улавливало запах гнили в призывах, звучавших куда ближе. Она безошибочно распознавала яд в речах и статьях, которыми даже люди, нравственно вполне здоровые, готовы были подчас обольститься. Ибо слова «Русь», «Россия», «русский мессианизм», повторявшиеся чуть не в каждом абзаце иных русских изданий, мощно воздействовали на тех, кто истосковался по родной земле. В облатке, сильно подслащенной «патриотизмом», неискушенный читатель или слушатель готов был глотать, не замечая, ту же отраву расизма. На этот раз — русского.
Сбивало с толку, что в эмигрантских журналах «Утверждения» или «Завтра» рядом со статьями, несшими в себе до поры до времени упрятанный опасный заряд, публиковались и безусловно светлые люди русского зарубежья, такие как мать Мария, Бердяев или Бунаков-Фондаминский. Идеологи «Утверждений» горячо приветствовали тенденции «национал-большевизма», крепнувшие, по их мнению, в Москве. Сами себя они именовали «национал-максималистами». И существовали еще «младороссы» («молодые люди, не доросшие до России», — саркастически шутил Дон Аминадо).
Различия между ними были, и немалые, но Цветаева не желала в них вдаваться. Во всяком случае, объединяться с «национал-максималистами» под одной обложкой — на это ее плюрализма (как мы сказали бы теперь) не хватало. Тут она была непримирима. От ее аполитичности не оставалось и следа.