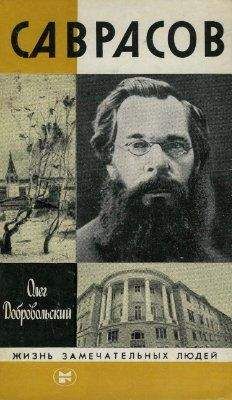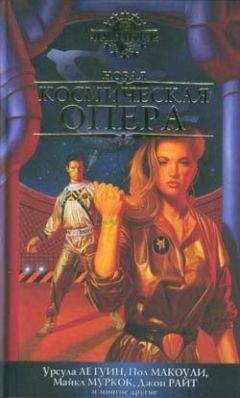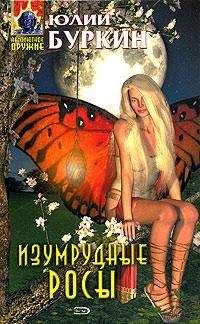Приятель Гиляровского — художник Николай Васильевич Неврев, преподававший в училище живописи, ваяния и зодчества, известный своими картинами «Торг», «Воспитанница», предложил ему как-то зайти к Саврасову и затем втроем отправиться позавтракать в «Петергоф». Алексей Кондратьевич, беспрестанно менявший свои адреса, жил тогда в меблированных комнатах на Моховой, рядом с Румянцевским музеем. Номер, как рассказал Неврев, ему сняли друзья, чтобы он мог поработать.
Гиляровский и Неврев пришли к Саврасову в солнечный мартовский день. Поднялись на третий этаж. Постучали в дверь, им никто не ответил. Они вошли в комнату, которую занимал художник. У окна стоял мольберт с картиной. Она поразила Гиляровского. На ней изображены были покрытая снегом крыша, освещенная румяным отблеском зари, голые ветви берез с гнездами грачей, сами эти хлопотливые птицы. Именно такой вид открывался из окна. Саврасов спал за перегородкой. Как выяснилось, Алексей Кондратьевич целую неделю трудился, писал этюды для эстампного магазина «Ницца» и для других, менее крупных. Но вот выполнил работу — и сорвался. Разбудить Саврасова не удалось, да и бесполезно это было, он не мог идти завтракать в «Петергоф»…
В другой раз, тоже весной, в марте, Гиляровский увидел Саврасова на углу Столешникова переулка, возле трактира. Художник, как писал он десятилетия спустя, был в коротком летнем пальто, в серых обтрепанных брюках, в разорванных резиновых ботиках, из которых торчали мокрые тряпки. Алексей Кондратьевич вынимал из кармана и считал копейки, очевидно, намереваясь зайти в трактир. Гиляровский позвал его к себе, благо жил он рядом, в Столешниках. Но вот что поразило дядю Гиляя. Внимание Саврасова привлекла ворона, которая сидела на лавине снега, медленно сползавшей с крыши церкви. Она долбила что-то своим клювом. Но снежная глыба достигла края крыши и рухнула вниз. Ворона взлетела, и весь ее вид выражал досаду и недоумение оттого, что так неожиданно исчезла добыча, принадлежавшая ей по праву. Как вспоминал Гиляровский, эта ворона вызвала неподдельный, искренний восторг у художника, который не удержался от восклицания: «Какая прелесть!» Саврасов наблюдал за воронами еще в детстве на улицах Замоскворечья. Целая жизнь прошла, а он остался в чем-то большим ребенком. И как хорошо это — до седых волос сохранить непосредственность и чистоту детской души!
Гиляровский, придя со своим необычным гостем домой, первым делом заставил его переобуться — дал ему обшитые кожей валенки и теплые носки. А то, что произошло потом, описал так:
«Он долго противился, а когда надел, сказал:
— Вот хорошо, а то ноги заколели!
Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.
— Ишь ты, теперь хоть куда. Штаны-то еще новые… — и снова сел.
В это время вошла жена — он страшно сконфузился, но только на минуту…
Разговорились. Вспоминали журналы, выставки, художников. Он взял со стола карандаш и спросил бумаги.
— Привык что-нибудь чертить, когда говорю… А то руки мешают…»
В описании этом, сделанном лет сорок спустя после того, как произошла эта встреча, Саврасов выглядит простоватым, страдающим неизлечимым недугом стариком, не утратившим стеснительности, какого-то простодушия и обаяния, говорящим по-простонародному. Конечно, трудно узнать в этом словесном портрете того Саврасова, каким художник был в его лучшие годы. Но можно сказать наверняка, своей прирожденной интеллигентности он не потерял даже в то тяжелое, трагическое для себя время. Кроме того, не следует забывать, что Саврасов не всегда был таким, что было в его жизни в те годы немало трезвых дней, когда он работал с просветленной головой, увлеченно и вдохновенно. Все, конечно, было, но не надо думать, что тогдашний Саврасов — это лишь обитатель трущоб и ночлежек. И тогда был другой, в чем-то прежний Саврасов, и у него была новая семья, дети, и он стремился по мере сил работать.
Находились люди, старавшиеся ему помочь, снять комнату в гостинице, приютить у себя, создать условия, необходимые для творчества. В 1887 году Саврасов поселился у Веры Ивановны Киндяковой, горячей поклонницы его таланта, в Большом Николаевском переулке, на Арбате. Он прожил у нее несколько месяцев, писал картины. А до этого долгое время не прикасался к кистям, его затянула, закрутила, как щепку в водовороте, угарная жизнь в трущобах на городских окраинах. Киндякова, знавшая его давно и всегда интересовавшаяся его судьбой, часто справлялась о нем, но найти, разыскать Саврасова было очень трудно. Наконец один знакомый Веры Ивановны сумел все-таки добраться до него. Он передал ему просьбу Киндяковой прийти к ней на Арбат. Для художника наступила светлые дни. У него была теперь мастерская, и он серьезно взялся за работу. Он создал две хорошие большие картины — «На реке. Вечер» (берег Волги при закате солнца) и «Вид на Москву из Волынского», с необычным, оригинальным мотивом, в пору поздней осени. О них с большой похвалой, даже с восторгом, отозвался в газете «Русские ведомости» критик В. Сизов в своей статье, посвященной последним работам Саврасова.
Киндякова в декабре послала письмо Третьякову. «Зная, — писала она, — что Вы постоянно приобретаете картины русских художников, я решаюсь довести до Вашего сведения обе эти картины, даже без ведома Саврасова». Добрая женщина просила Павла Михайловича навестить художника и посмотреть его работы. «Это, — добавляла она, — его очень ободрит и обрадует. При этом моя покорнейшая просьба не упоминать ни слова о том, что я писала Вам. Он не хочет заискивать ни в ком, но в высшей степени рад, когда его навещают прежние его почитатели». Слова: «не хочет заискивать ни в ком» — весьма знаменательны. Жизнь хотела унизить Саврасова, сломить его дух. Но он никогда не терял веры в великую силу искусства, гордился тем, что он художник.
Помогал Саврасову и живописец Сергей Иванович Грибков, живший в собственном доме у Калужских ворот и имевший там большую мастерскую церковной живописи, где работал вместе с учениками. По вечерам у него нередко собирались друзья-художники: Неврев, Шмельков, Пукирев… Присутствовали и ученики. Было весело, пили чай с пряниками и конфетами; молодежь танцевала под гитару и гармонь. Бывал на этих вечеринках и Саврасов. Случалось, он поселялся у Грибкова и жил подолгу…
Разные были приятели. К сожалению, и безвольные, больные люди. Общение с ними обостряло болезнь художника, мешало ему вырваться из трясины, которая затягивала все глубже и глубже.
Близким, закадычным другом Саврасова стал небезызвестный в те годы литератор Иван Кузьмич Кондратьев, или просто Кузьмич, как его называли товарищи. Это был плодовитый писатель, поэт, драматург. Автор поэм, стихотворений, исторических романов и повестей — из жизни древних славян, из эпохи старообрядческих смут, сочинитель драм, водевилей, шуток. Все эти произведения предназначались в основном для издателей с Никольской. Жил тогда Кондратьев в конце Каланчевской улицы, в доме Могеровского, около вокзалов. Встречавшийся с ним поэт, прозаик, переводчик Иван Алексеевич Белоусов сохранил в своей памяти ряд любопытных деталей, которые привел впоследствии в своих воспоминаниях.