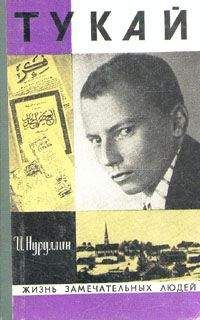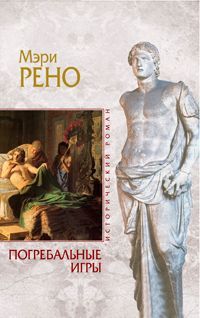В сознании поэта борются две силы — идеализм и материализм. Что такое жизнь? Смерть? Исчезновение навеки? Тогда это чудовищно. Или же при этом уничтожается только тело, а дух продолжает жить? Тогда смерть не страшна! В 1910 году поэт сказал: «Наше тело для души лишь одежда, которая быстро изнашивается! Живет она или гниет — неважно, суть не в ней!»
В январе 1913 года борьба в сознании Тукая, видимо, продолжалась. В стихотворении «Положение больного» он пишет: «Смерть! В тебе то скорбь, то радость страждущей душою вижу».
Как разрешилась эта борьба и разрешилась ли вообще, мы не знаем. Но его мысли текли и в другом направлении: верно ли прошел он свой жизненный путь? Исполнил ли он клятву, данную народу? Принес ли ему какую-нибудь пользу своим творчеством? Это было для него тем более важно. Он жил для народа. Если написанное им разбудило хоть малую толику добрых чувств, его стихи будут передаваться из поколения в поколение. Народ будет жить, вместе с народом будут жить и его мысли, и чувства, радости, горести и надежды.
«Ночью он зашел ко мне проститься, — пишет Ф. Амирхан. — Лицо у него было по-детски просветленное.
— Завтра утром я ложусь в Клячкинскую. Ты еще будешь спать. Может, больше не увидимся. Тогда прощай!
От докторов я знал, что ему осталось жить месяц, самое большое — полтора. Я понимал: это «прощай» было последним. Но сказал ему:
— Поправляйся, до скорой встречи! Выходя из комнаты, он обернулся.
— Нет уж, пусть встреча состоится нескоро — ты живи долго!»
Тукай знал, что не выйдет из больницы. Но лицо его было светлое. Глядя смерти в глаза, он уходил со спокойной душой. Значит, решил для себя главное.
Месяц с небольшим, который Тукай провел в Клячкинской больнице, — поразительная страница его жизни.
Первым делом он пишет упомянутые «Два примечания» и посылает их в «Ялт-юлт». В них есть такие строки: «Подчиняясь настоятельному совету уважаемых докторов, 26 февраля я лег в Клячкинекую лечебницу в Казани. Поэтому я передал другим обязанности секретаря журнала «Ялт-юлт», в организации которого участвовал и в котором с любовью работал с самого начала до последнего времени. Отныне я не считаю себя ответственным за материалы, которые будут напечатаны в журнале».
В архиве хранится несколько записок поэта из больницы. Давайте почитаем их одна за другой, чтобы представить себе, чем жил Тукай в этот последний свой месяц.
«Фатых!
Моей статье вы оказали честь, напечатав так, как печатают только редкостные вещи. Спасибо. Видимо, напишу еще.
Если сохранились в памяти, напиши и пришли мне строки, взятые Шигапом-хазретом из какого-то арабского баита и написанные на минарете в Булгарах. Не медли!
«Кояш» приходит нерегулярно. Запаздывает. Как-то пришло три семьдесят вторых номера. А сегодняшний номер — в двух экземплярах, семьдесят третьего и вовсе не видел. Умоляю вас прислать этот номер сейчас! Привет Закарие-абзыю (издатель и редактор газеты З. Садрутдинов. — И. И.).
Ваш покорный слуга Тукай. 1913, 18 марта».
«Уважаемый Гарей-эфенди!
Стихотворение «Писателю» отдал в журнал «Мэктэп», поскольку не вижу в нем ни красоты, ни изящества, достойного журнала «Анг». Да и там не разрешил поместить его на первой странице. Пойдет в конце и незаметно. В седьмом номере стихов моих помещено мало, для постороннего глаза это заметно. Есть у меня еще одна вещь. Но, наверное, уже поздно. К восьмому, бог даст, не оплошаю, что-нибудь напишу. Все-таки было бы хорошо, если бы ты забрал дополнительный материал для седьмого. Каждый день ожидал тебя. Всего доброго.
Г. Тукай.
1913, 20 марта».
«Уважаемая Зайнап-ханум!
В восьмой номер послал все, что было. Первую корректуру нужно бы мне посмотреть. Кроме того, хорошо бы все эти стихотворения поместить в одном номере. Было бы весомей. Хотя чувствую, цензор вычеркнет одну-две строфы из «Слова Толстого». Тогда тем более обязательно напечатать все.
Г. Тукай.
1913, 28 марта».
Не знаю, как читателю, но мне человек, написавший эти строки, кажется не умирающим от туберкулеза, а лежащим в больнице ну, скажем, из-за перелома ноги. Он следил не только за тел, что печаталось в Казани, но читал газеты и журналы, выходившие в других городах, — «Идель», «Вакыт», «Акмелла», периодику на русском языке, интересовался булгарским царством, его литературой, писал стихотворение за стихотворением, чтобы видеть новый цикл в каждом номере журнала. Свои лучшие стихи посылал в «Анг», те, что казались ему похуже, печатал на последних страницах в каком-нибудь другом журнале, «чтоб не пришлось краснеть».
Обратите внимание на дату последней записки: 28 марта. Через четыре дня поэт уйдет из жизни. Какие же статьи послал он Фатыху Амирхану, за судьбу каких стихов беспокоится?
Статья, упомянутая в записке к Амирхану — «Первое дело после пробуждения», написана в больнице и опубликована в газете «Кояш» 14 марта. Последние семь лет своей жизни Тукай уподобляет в ней полусну. Правда, временами он просыпался и тогда чувствовал неудобство, словно в сапог попала вишневая косточка. Но потом снова засыпал и жил как во сне. Но «если можно говорить прямо, зачем прибегать к иносказанию? Меня стесняли и мучили в моменты пробуждения мои стихи, разбросанные по разным сборникам, которых не принимала моя душа, моя совесть, вся моя жизнь, но которые до сего дня так нахально ходили в народе. 1913 год. Я проснулся, чтобы больше никогда не заснуть. И что ж я вижу? Сижу я, глупец, на осле. Своим явленьем на свет обязан скорее всего недоразумению. Моя правда — ложь, мое дыхание — дым, все «чистое» во мне — лишь топливо для преисподней».
Что все это значит? Быть может, поэт, чересчур требовательный не только к другим, но и к себе, просто хватил через край? Или же вообще отрекается от своей поэзии, дошедшей до низов, отозвавшейся в народной душе? Настораживают и следующие слова в статье: «Эй, тюркское дитя, живущее на земле, ученый ли ты, философ ли ты, государь ли ты, нищий ли ты, теперь уж я не страшусь впустить тебя в свой дом».
Еще раз вчитываемся в статью. Пробудившийся поэт принимается мести свою «поэтическую комнату», просматривает все написанное им и бракует то, что не соответствует его теперешнему миропониманию. Что ж это за стихи? «Слабосильные от рождения», ученические сочинения, родившиеся, по его собственным словам, в «несмышленой голове»? Или же те, которые представляют его гражданином и которые мы столь высоко оценили?
Прочитав следующие строки, мы облегченно вздыхаем.
«О, сколько здесь хлама? Какие-то «американизированные» «Вечерние молитвы», какие-то подражания бездарным турецким рифмоплетам...». Тукай приводит названия лишь двух стихотворений, но «вымел» не менее двух десятков.