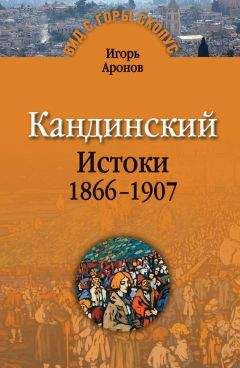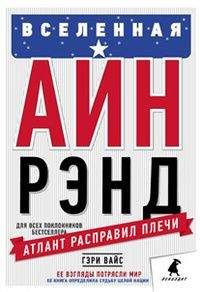Приложение
Письма В.В. Кандинского Н.Н. Харузину
Фотография Н. Харузина
Обложка книги Н. Харузина о древних русских церквях. Париж, 1893
Фотография В. Кандинского
23 Апреля [18]89 г. Москва
Очень рад за Вас, Николай Николаевич, что сам Гурзуф доказал Вам справедливость моих слов[234]. Жить в Гурзуфе значит постоянно видеть вдохновлявшие Айвазовского[235] и Судковского[236] картины. В Гурзуфе, по-моему, всего рельефнее выступают красоты Черного моря. Здесь они бьют по нервам. Человек, не видевший Черного моря, будет подавлен, поражен его силой. Только раз видевший его, приглядевшийся к нему, снова поймет его самим чувством. Представив себе Гурзуф, я особенно сильно почувствовал всю тяжесть жизни теперь в Москве. Сидишь тут, в окно так и бьют горячие лучи солнца, а ты … читаешь о консисториях, благочинных, иеромонахах![237] На носу репетиции Павлова[238]. А там Янжул[239], Камаровский[240] и т. д., и т. д. Целая серия противовесенних курсов[241]. А мысли бродят где н[и]б[удь] в Крыму, то в Париже, то у Зырян. Выставка передвижников овладевает чувствами и фантазией, тянет к краскам. А тут … консистории … Какую картину Поленов[242] выставил, если бы Вы видели. Горячие тона южного летнего солнца, зеленое озеро, вдали синеющие горы, раскаленное небо. Дивная красота и Христос. Он идет и он выше и прекраснее самой природы. Лица почти не видно. Все выражение в фигуре. Самый замысел и построение ее может Вам передать отвратительный рисунок в начале письма. Выше этой картины нет на выставке, но ее почти не замечают, т[ак] к[ак] лица почти не видно. Мне больно за Поленова.
«Зырянить» я начну с 20-го мая[243]. Лучше всего писать мне в Вологду до востребования. Дальнейшие адреса пришлю. Пишите, Николай Николаевич. Я очень рад Вашим письмам. Крепко жму Вашу руку. Желаю Вам отдохнуть и крепнуть, крепнуть.
Ваш В. Кандинский
Мой поклон П. М-чу[244]
АХ, ф. 81, д. 98, л. 135–136
[2 декабря 1889 г., Москва]
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Посылаю Вам отчет о моем сообщении для протокола, Савваитова[245] и свою печаль. Паппе[246] сделал не всю работу. От дальнейшего участия в библиографии отказался и т[аким] обр[азом] у меня получилось 15 газет, к[о]т[о]р[ы]е я д[олжен] пересмотреть, кроме др[угих] изданий. Это задержит библиографию, что мне крайне неприятно. В заседании не было никого из библиографов; не знаю, когда нам пришлют свои работы. Одним словом, я в унынии и отчаянии. Боже мой, как все всегда выходит не по человечески!
Сегодня ждал Вас с Казминым[247] до 2 1/2 ч. Неужели Вы захворали?
Крепко жму Вашу руку.
Ваш В. Кандинский
2. XII. [18]89. М[осква]
АХ, ф. 81, д. 17, л. 104
27 декабря [18]89 г., Одесса
Небо серо, море серо, в воздухе мгла какая-то, на улицах пусто, дома темны, люди скучны…. Вот он благодатный юг и его «Пальмира»! Был я у моря; оно слабо плещется об обалдевшие камни. Тоскливее этой песенки трудно что-либо придумать…. Как же не «обалдеть»? Безысходно, безнадежно скучно. Не будь здесь родных бежал бы – куда? Если хотите некуда. Ибо везде одно и тоже. Как же не сделаться неврастеником? Как, наконец, не сделаться гиппохондриком и не вообразить, что сердце есть не более – не менее, как пароходное колесо, которое болтается в пространстве совершенно безрезультатно? Как не вообразить, что в голове, вместо надлежащего моря, сидит легион чертиков, хором вопящих: тошно! Хорошо быть «просветленным духом» и наблюдать наше скучанье, но сидеть лишь в ожидании этой благотворной метаморфозы не всякому по силам. Да, наконец, и духам скучно: они все знают и единомыслящи. Как говорится, ни теперь, ни сзади, ни впереди. Скучное, бесцельное вставанье, визиты, обеды, вечера, сон… Может быть сон всего этого лучше, но спать постоянно нельзя. Простите, дорогой Николай Николаевич, за нытье. Писать иначе я не мог, вовсе не писать тоже не мог.
Сегодня иду на «Кармен». Хорошая вещь музыка. Как можете Вы так редко ее слушать? Я же умудрился не привезти совсем ни «контрабас», ни масляных красок и теперь довольствуюсь самобичеванием. А ведь искусство, хоть и дилетантское, есть та обетованная земля, где можно скрыться от самого себя. Искусство парализует чувство тела, т. е. тело не чувствуется, живешь лишь тем, что принято звать душой и в этом отдых.
Я очень скверно написал, т[ак] к[ак] рука не ходит, лень какая-то. Крепко жму Вашу руку. Мой очень большой поклон всем Вашим. Пишите, Николай Николаевич. Как Вы живете?
Ваш В. Кандинский [подпись]
АХ, ф. 81, д. 17, л. 105–106
[24 февраля 1890 г., Москва]
Посылаю Вам, Николай Николаевич, хахановские письмена[248] и «Вотяков» Смирнова[249]. Пожалуйста передайте и то и другое Николаю Андреевичу[250]. Скажите Вере Николаевне[251], что сегодня и в нашей знаменитой булочной нет жаворонков.
Крепко жму Вашу руку. Мой поклон всем Вашим.
Зайдете? Приходите!
Ваш ВК
24. II. [18]90. М[осква]
АХ, ф. 81, д. 17, л. 108
25 июня 1890 г., с. Троекурово [Московской губернии]
И у этих сарапульцев[252] хватает смелости говорить, что у нас тут нехорошо!!. Удивительно… Иметь такую дерзость! Кто! Это просто невозможно. Это не может быть!.. Представь себе жаркий день, такой жаркий, что, кажется, так и испечешься, так и погибнешь. Представь себе, что в такой-то день идешь по тенистой дорожке, где над головой прозрачною листвой сплетаются юные, свежие липы, идешь к быстрой, холодной речке и, принимая образ праотца, бросаешься в ее быстрины. Играешь в воде, словно неопытная плотичка и далеко-далеко улетает от тебя, и, словно облачко, тает в жгучих лучах солнца римское право[253]. – А то вечером, когда жар свалит, верхом на «Перкуне» пробираешься извилистой тропинкой старого леса, слушаешь птицу всякую, или летишь сломя голову по полю и цепью бегут мимо холмы дальше, дальше, рожь тихо кланяется, васильки кивают, а где-то за поднявшимся туманом дудит рожок пастуха. Это ли не поэзия? А лунная ночь? А восходы? А музыка? А …. Только, как черный ворон, как восставшая из гроба тень врага, как ведьма на метле, вдруг безжалостно пронесется в уме: «экзамены». Но мне здесь хорошо. – Ты знаешь ли, что твои сестры вернулись из Финляндии и живут теперь в Кунцеве? Верно, они уже написали тебе.