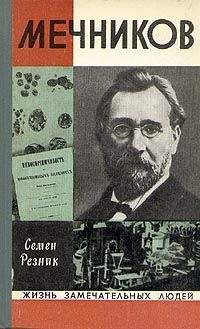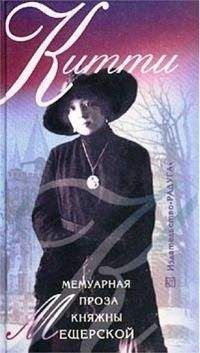— Да… но ведь завтра мы с утра выезжаем в Петровское?..
— В котором часу?
— Часов в двенадцать дня.
— Вот и прекрасно. А до двенадцати выспитесь сами и нам дайте выспаться.
Понял ли Васильев, что я все равно настою на своем, но он молчал. Только лицо его приняло неприятное жестокое выражение.
На этом мы расстались.
Перед отъездом в Петровское меня очень удивило одно обстоятельство: я думала, что мы поедем компанией, и была удивлена, узнав, что тетка отказалась от этой приятной поездки и остается в Москве. Вообще я заметила, что у нее с Васильевым наладился какой-то необъяснимый контакт. Они часто шушукались, сговаривались о чем-то. «Наверное, тетка в лице Васильева вербует себе союзника для того, чтобы он содействовал ее браку с Дмитрием Ивановичем, — думала я, — может, этим объясняется ее отказ ехать с нами в Петровское?»
За завтраком тетка встала с бокалом в руке.
— Поднимем наши бокалы, — сказала она, метнув один из своих огненных взглядов на Васильева, — за орла, сильного, прекрасного и смелого, превратившего наши будни в сказку. Я желаю, чтобы он всегда преодолевал всякое препятствие, стоящее на его пути, и достиг бы исполнения своего желания… — Она захохотала, а Васильев, улыбаясь, поспешил ее перебить:
— Я желаю только одного: чтобы вы сообщили нам кое-что о себе, когда мы вернемся из Петровского!
— И чтобы вы тоже мне кое-что сообщили. — И тетка многозначительно подмигнула Васильеву.
Я уже видела, что Дмитрий Иванович не только не имел вида жениха, но вообще походил на приговоренного к тюремному заключению.
Наконец закуски, вина и мука были уложены в корзины, и мы выехали в Петровское на блины к Наталии Александровне Манкаш[3].
Васильев сам сел за руль, попросив меня занять место рядом с ним.
— Мне будет веселее! — сказал он.
Выехав на Арбат, мы понеслись к Смоленскому, миновали Брянский вокзал, Дорогомилово и выехали на Можайское шоссе.
— Протяните вашу руку, просуньте ее в карман моей меховой куртки, — обратился ко мне Васильев.
Я протянула руку и нащупала у него в кармане маленькую, завернутую в бумажку коробочку.
— Нашли коробочку? — спросил Васильев, — выньте ее и разверните бумажку, откройте коробочку…
Я повиновалась, заинтригованная, и увидела на бархате два обручальных кольца: мужское и женское.
— Возьмите маленькое, примерьте, оно ваше. Интересно, угадал ли я размер?
— Вы просто сумасшедший! Я и примерять не стану!
Этот Васильев начинал мне казаться преоригинальным нахалом, он ежеминутно что-нибудь преподносил, и это была одна из самых нелепых его выходок.
— Я вас очень прошу, наденьте кольцо. — Он замедлил ход машины. — Я никогда ни о чем не просил женщин, не приходилось. А вот вас прошу, для меня наденьте…
— Есть вещи, которыми не шутят, — серьезно сказала я, — и из которых не устраивают комедий. Вам придется подарить эти кольца моей тете и Дмитрию Ивановичу.
— Почему же? Я не против сыграть одну за другой две свадьбы подряд.
— Наша, конечно, первая? — И я от души расхохоталась. — Да вы еще не сделали предложения.
— А зачем? Это само собой разумеется, — спокойно ответил он. — Мы должны приехать из Петровского женихом и невестой.
— Если так, то поворачивайте скорее обратно в Москву!
— Почему? я вам противен? — Он искоса на меня посмотрел.
— Это не то слово. Николай Алексеевич, не обижайтесь… — Я подыскивала слова, которые были бы для него не обидны. — Понимаете, такой человек, как вы, мне лично даже как знакомый неприемлем: говорим мы с вами на разных языках, да и вообще… ну подумайте сами: знаю я вас всего лишь два дня. Вы пришли к нам как покупатель…
— А теперь в родню лезу, так, что ли? — И он взглянул на меня исподлобья. — Недостоин, стало быть?
Он рванул руль, машина так сильно вильнула в сторону, что мама громко вскрикнула.
— Не будем говорить на эту тему, пока вы сидите за рулем, иначе автомобильная катастрофа неминуема. На что вы имеете право сердиться? Вы хотели купить антиквариат? Вы его купили… Вам хочется выдать мою тетку замуж? Выдавайте… Но какие претензии у вас могут быть ко мне?
— Какого же черта тогда я еду с вами в Петровское? Смеяться изволите? Груб, неотесан, недостоин, но нужен?! — Тверской мужик, озлобленный, страшный, с горящими ненавистью глазами, смотрел на меня.
— Запомните, Николай Алексеевич, одно: мне лично от вас ничего не нужно, ничего… Как вы смеете грубить? Почему вы, попав к нам случайно, вот уже два дня, как не желаете от нас уходить. Ведь вчера я почти насильно выпроводила вас. Сейчас едете с нами в Петровское, сами все это задумали… Какие желания я выражала вам? О чем я лично вас просила?.. Ни о чем! А может быть, вы хотите знать, чего я хочу? Извольте, скажу: только одного — чтобы вы как можно скорее оставили наш дом в покое и меня лично тоже…
Васильев на это ничего не ответил, только сильнее стиснул руль. Жилы на его руках надулись, и наша машина понеслась с бешеной скоростью. Казалось, он во что бы то ни стало решил всех нас разбить вдребезги, мы точно мчались навстречу смерти.
Мама отчаянно стучала нам в стекло. Лицо ее было искажено страхом, она просила убавить скорость.
Больше за все время пути мы с Васильевым не проронили ни слова.
На станции Голицыно мы свернули. Восьмикилометровое шоссе подходило прямо к Петровскому дворцу.
Еще издали я увидела это изумительное по стройности здание, к которому навек было привязано мое сердце.
По-прежнему сиял серебром круглый купол, но чем ближе мы подъезжали, тем печальнее становился его вид. Окна были частью выбиты, частью забиты. Большие входные двери наглухо заколочены простыми досками. Каменные ступени двух полукруглых лестниц местами разбиты, видимо, при выносе тяжелых вещей из дворца. Зеленый ковер луга был истоптан, изрыт.
Парк рубили. Все статуи исчезли, и многие пьедесталы, одиноко торчащие среди зелени, были разбиты.
Три флигеля занял больничный персонал, а наш любимый, в котором мы когда-то жили сами, стал больницей — на первом этаже. Весь второй этаж был отдан детям голодающего Поволжья.
Терраса заставлена койками, на которых спали тепло закутанные дети.
Мы приехали в Петровское в два часа дня. Наталия Александровна, работавшая в больнице кастеляншей, должна была прийти домой на обеденный перерыв, о чем сказала Васильеву одна из молоденьких сестер-нянек, состоявших при детях. Эти девушки бегали по лестнице то вниз на кухню, то наверх к детям, с любопытством разглядывая наш автомобиль. Они, видимо, никак не могли понять, что за важные лица приехали на своей машине из Москвы к одинокой кастелянше Жабе (так Манкашиху прозвали в больнице).