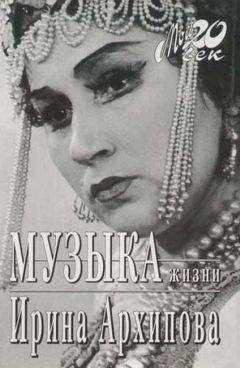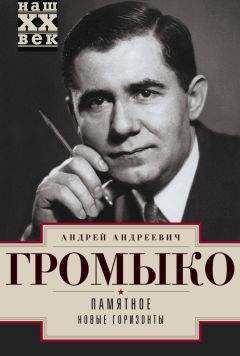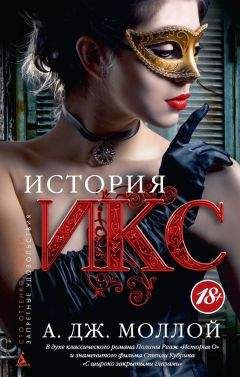Алеша Идельсон был умным, способным мальчиком, но почему-то тогда не «ладил» с русским языком — у него была по нему только «тройка». Как-то на нашей кухне, где соседи традиционно обсуждали все свои проблемы или радости, Алеша стал спрашивать Ольгу Николаевну: «Скажи, мама Оленька, как правильно писать: «завтрек» или «завтрик»?» Потом были и другие варианты: «завтрок», «завтрык»… Соседки сопровождали эти лингвистические «поиски» Алеши возгласами недоумения и даже ироническими замечаниями, но единственно правильного написания слова «завтрак» Алеша так и не произнес…
Через много лет, будучи уже певицей и гастролируя, я впервые приехала в Минск с концертами. Вскоре я получила письмо от незнакомого мне Алексея Внукова и долго не могла понять: кто это? не знаю я никакого Внукова… И не ответила на его письмо. И только через несколько лет до меня, что называется, дошло, кто это мог быть, — это же мой бывший сосед по квартире, сын Ольги Николаевны, который, наверное, взял ее фамилию! Хотела ответить Алексею, но письмо с его адресом куда-то затерялось во время моих постоянных разъездов… До сих пор чувствую вину за свое тогдашнее невнимание к нему.
Думаю, что Алеша не случайно стал носить фамилию матери — тому были причины, и весьма грустные. В страшные времена середины 30-х годов, в одну из ночей в нашей квартире раздался роковой звонок в дверь, и отца Алеши увели молчаливые люди — как уводили по ночам и многих других жильцов нашего большого дома. И не только нашего.
А уже перед самой войной выслали из Москвы и всю семью Идельсонов (очевидно, разрешив взять с собой минимум вещей). Казалось, что мы никогда больше уже ничего не узнаем об их судьбе. Но через какое-то время пришло письмо от Ольги Николаевны (уже из далекого Казахстана), где она среди прочего написала, что хотела бы, чтобы оставленная ими фонола теперь стояла у нас. Милая Ольга Николаевна! Она словно знала, что когда-то я очень хотела, чтобы и у меня был такой инструмент, на котором не надо учиться играть, не надо нажимать на тугие клавиши…
Мне запомнилось, как в те годы папа с мамой нередко вдруг начинали говорить между собой шепотом — словно боялись, что их может услышать кто-то посторонний. Я еще мало что понимала во всем происходившем вокруг, но чувствовала, что в жизнь людей вошел какой-то страх. Родители не отгораживали нас, детей, от того, чем жила страна (да это было и невозможно), но своей любовью они создавали и поддерживали в семье тот особый охранительный домашний дух, в котором должны расти дети. Семья — начало начал, опора и защита…
Пора рассказать о моих родителях, о наших семейных корнях.
Мои папа и мама встретились в Москве, куда совсем молодыми приехали в начале 20-х годов учиться. Отец, Константин Иванович Ветошкин, приехал из Белоруссии, где жили его родители. Мой дед Иван Ветошкин происходил из семьи потомственных железнодорожников и в молодости работал на линии, ведущей в Варшаву. Очевидно, он был настолько привлекательным мужчиной, что в него влюбилась, да так, что решилась на небывалый тогда поступок, красавица полька Альбина, — она сбежала за ним из дому. Вместе с ней сбежала и ее сестра Стася. Дед познакомился с этими девушками во время одной из своих поездок в Польшу. Молодой железнодорожник Иван и красавица Альбина поженились в Минске, там же родился и их первенец — мой будущий отец. А бабушкина сестра Станислава так всю жизнь и прожила рядом с их семьей.
Стремление к знаниям привело отца в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Этим выбором профессии он как бы продолжал традиции своей семьи. Он стал первым из своих братьев, получившим диплом о высшем образовании.
Моя мама, Евдокия Ефимовна Галда, родилась и выросла в той части Южной России, которая в XVII–XVIII веках называлась Слободской Украиной. Население здесь было смешанное: были русские села, где жили «москали», как их здесь называли, были украинские села «хохлов», которых во времена Екатерины II переселили на эти земли, были села староверов… И говорили здесь на своеобразной смеси русского и украинского языков. Село, где родилась мама, было украинское. Называлось оно Николаевка и находилось в 50 километрах от станции Валуйки (сейчас это Белгородская область).
Семья мамы была очень певучей. Мой дед Ефим Иванович (односельчане звали его по-украински Юхимом), хоть всю жизнь и трудился на земле, имел несомненный дар Божий — он славился на всю округу своим сильным, красивым басом-баритоном благородного тембра и был прирожденным артистом. У деда была природная постановка голоса, и он пел, как пелось: на веселых праздниках, на свадьбах, куда его приглашали не только односельчане, но и из соседних деревень. Одно время он руководил хором в сельском клубе. В округе неспроста говорили: «Когда поет дед Галда, так и телята плясать пойдут».
Пел дед Ефим и для себя — когда душа просила. С раннего детства, когда мы приезжали в гости к дедушке и бабушке, я запомнила ту особую задушевность, с какой в их семье пели народные песни.
Запомнилось мне и другое. В последний год войны, когда наша территория уже была освобождена от фашистов, мама попросила меня (мы тогда уже вернулись из эвакуации в Москву) съездить к старикам. Долгое время, пока шла война и южные области были оккупированы, нам ничего не было известно о родных: живы ли они? в чем нуждаются? Душа у всех нас была неспокойна.
Я в то время была уже студенткой Архитектурного института, и мама решила, что мне по силам отвезти в Николаевку небольшой мешок с мукой в надежде, что от станции Валуйки меня кто-нибудь «подбросит» по пути. Меня действительно довезли на какой-то подводе, но только до поселка Вейделевка — это на полпути к Николаевке. Оставшиеся 25 километров мне пришлось идти пешком с тяжелым мешком за плечами.
Я шла целый день одна, и впечатление от увиденного было ужасным: все было разорено, разрушено, вдоль дороги во рвах еще лежали неубранные танки. В этих местах летом 1943 года шли ожесточенные бои — здесь находился один из участков грандиозной битвы на Курской дуге.
Когда я под конец дня добралась до Николаевки, то бабушка не просто была поражена — она чуть не упала в обморок, увидев меня одну. Только потом я поняла, в чем дело. Война еще не кончилась, и по окрестным лесам и рощам бродили люди, с которыми было лучше не встречаться: то ли это были бандиты, то ли скрывавшиеся дезертиры, то ли еще кто-то, кого следовало остерегаться. Я же прошла 25 километров в полном одиночестве, ничего этого не зная. И это было чудо, что никого из этих людей я не встретила. Была еще одна опасность. В то время по лесам и полям развелось неимоверное количество степных волков, или шакалов, как их здесь называли. Объяснение этому было в том, что после сражений повсюду лежало множество неубранных трупов, которые невозможно было сразу захоронить, так как не хватало людей, чтобы помогать погребать погибших: население или было уничтожено фашистами, или бежало от страха в другие районы. В своих домах оставались лишь немногие. Мне запомнились страшные рассказы о бесчинствах стоявших в этих местах финских и итальянских фашистских солдат.