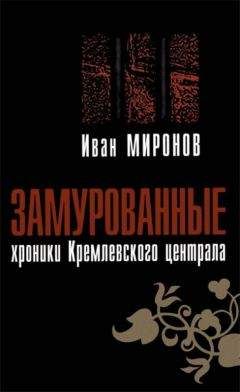— Я?! Нет… — замялся Заяц. — Просто, если я погибну, папа не переживет. И на вашей совести будут две смерти. Нельзя, грех большой.
— Ты когда это верующим стал? — поинтересовался Алтын, аккуратно снимая с ножа пластиковую стружку. — Заяц, ты от греха подальше засухарись до утра, а то вскроем тебя не по расписанию.
После отбоя потушили свет. Зэки завалились на койки, в полудреме топчась по музыкальным телеканалам. Сева, дабы не раздражать общество, тихохонько сидел за столом в засаде на спящих сокамерников. Он твердо решил не смыкать глаз, угроза Алтына звучала как приговор. Взбадривал себя Заяц методичным уничтожением недельных запасов растворимого кофе и курева. Храп, раздавшийся сверху, стал для него сигналом к действию. Достав из баула блокнот, Сева судорожно вырвал страницу и крупными буквами написал: «Утром камера вскроется, заблокируют дверь, вызовут прессу. Меня хотят убить! Помогите!!!»
Засунув маляву в кальсоны, Заяц с кружкой направился к шипящему чайнику, руки ходили ходуном, но кофе на этот раз в его планы не входил. Налил кипятка, сжал зубы, зажмурился и плеснул на руку.
Сева взвыл благим матом, камера проснулась, вертухаи застучали в тормоза.
— Позовите, пожалуйста, врача! Я сильно руку обжег! — промычал Заяц, прижавшись щекой к штифту.
— А ну-ка иди сюда! — Сонный Бубен заподозрил подвох. — Давай сюда руку!
Все было взаправду. В натуральности ожога и искренности страданий Севы сомневаться не приходилось. Таких последствий от членовредительства не ожидал и сам пострадавший.
— Иди отлей на руку, дебил, — участливо посоветовал Бубен. Заяц послушно пошкандыбал на дальняк.
Через десять минут «кормушка» отвесилась, в проеме замаячила медичка.
— Что у вас произошло? — Доктор недоуменно поморщилась от запаха покалеченной руки.
— Ошпарился, доктор! — прокартавил Сева, здоровой рукой незаметно просовывая в «кормушку» записку.
— Сам ошпарился? — скинув маляву в карман халата, недоверчиво уточнила врачиха, брезгливо натягивая перчатки.
— Сам, сам, — облегченно вздохнул Заяц. — Случайно получилось.
Обработав сваренную руку, медичка удалилась. Сева, распечатав очередную пачку сигарет, направился к дубку.
— Стоять! — заорал Бубен. — Куда пошел?
— В смысле, Серега? Чего ты? — залепетал Заяц.
— Тыкни кобыле под хвост! Все, теперь живешь у тормозов.
— Почему? — Сева начал заикаться.
— Зафаршмачился, народный целитель, сам себя обос…
— Ты же сам сказал?!
— А если я тебе скажу в … начнешь?
— Или уже начал? — ехидно подхватил Шер с соседней полки. Заяц обмяк, сполз по стене на корточки и уставился в пол.
— Ладно, утром посмотрим на тебя. Может, заработаешь себе скачуху, — зевнул Бубен, переворачиваясь на другой бок.
Скачуха Севу не интересовала. Ночь перевалила за экватор, реакции на записку не наблюдалось. Поскольку доступ к баулу был закрыт, пришлось воспользоваться клочком туалетной бумаги, на котором под шум воды Заяц накропал: «Заберите меня из камеры! Спасите!»
— Будьте так любезны, позовите, пожалуйста, врача. Пусть, если возможно, принесет обезболивающее, — заныл он, вжавшись губами в дверной косяк.
— Ты что такой тревожный? — встрепенулся Бубен.
— Рука болит, — проскулил Сева.
— Не помогает больше народная медицина? — загоготал Шер. Железная форточка отворилась, в ней снова возник женский профиль.
— Сделайте что-нибудь. — Сева высунул наружу голову дальше руки, скинув в коридор очередное послание.
— Не волнуйтесь, все утром, — шепнула врач и громко продолжила: — Кроме ношпы, ничего больше нет.
— Давайте. — Сева сгреб таблетки.
Ровно в семь включили свет. Все мирно спали. Один лишь Заяц, одев под утро толстый шерстяной свитер с воротом под горло, куртку с капюшоном и сверху замотавшись шарфом, изо всех сил таращил глаза, борясь с одолевающей дремотой. В тишине из-за двери отчетливо доносилось шуршание, сопение вертухаев. Ждали представления, но оно не начиналось. Настало время поверки. Под лязг замка арестанты попрыгали со шконок, все еще пребывая в сонном забытьи. Вместо дежурного офицера в камеру ввалился «резерв» — тюремный спецназ в полной амуниции: маски, каски, щиты, дубинки. Из-за щитов выглядывала знакомая рожа капитана.
— В камере четверо. Все нормально, — доложился Шер, накануне назначенный дежурным.
— Точно все в порядке? — оскалился капитан.
— В порядке — спасибо зарядке, — ошарашенный взгляд Алтына разрывался между ощетинившимися гоблинами и закутанным Зайцем.
Со Славой Шером и Зайцем вышла некрасивая, но очень живописная история. Заяц признавал в мошеннике неоспоримый авторитет, опору и защиту в непостоянстве тюремных будней. Но с появлением в хате блатных он решил поменять учителей, переметнувшись под бандитское крыло. Как-то раз, желая закончить пустой спор с Зайцем, Шер в сердцах назвал его петухом. На следующий день во время прогулки Бубен, внимательно оглядев Зайца, спросил его:
— Сева, ты действительно дырявый?
— Нет, ты чего, нет, конечно, — замельтешил Заяц.
— Интересная фигня получается. Тебя Шер при всех объявил пидором, а ты смолчал.
— Серега, а что мне теперь делать?
— Если объявил, пусть обоснует. Обоснует — будешь курой, если нет — тогда должен с него спросить.
— Как это — спросить? — предложенная альтернатива Севу не вдохновляла.
— Как с понимающего! — в глазах Бубна блеснул кровожадный огонек.
Спустя часа два сокамерники уселись за дубок. Заклокотал чайник, по кружкам захлюпал кипяток, поднимая со дна пряные россыпи.
— Слава, ты меня вчера петухом назвал, — без предисловий начал Заяц, косясь на Бубна.
— Ну, и что? — зевнул в ответ Шер.
— Обоснуй! — дерзость была напускной и фальшивой. Заяц геройски посмотрел на Серегу, тот одобрительно кивнул.
— Без объяснения причин, — отрезал Шер.
Заяц не растерялся. Схватив кружку Алтына, он резко плеснул содержимое в лицо обидчику.
Кипяток плетью врезался в кожу, оставив на щеке и шее мошенника размашистые рубцы. Шер не успел матерно взвыть, как под грохот тормозов в хату влетели вертухаи…
После моего заезда Заяц пробыл в хате четыре дня, не переставая развлекать и раздражать окружающих.
Модным аксессуаром среди сидельцев изолятора были беруши. Их периодически запрещали и изымали, но Севу эти репрессии обходили стороной. И вот, затрамбовав берушами уши, Плащ наслаждался послеобеденным сном. В камере дым стоял коромыслом: шла непрекращающаяся готовка, перед штифтом мелькали спины, заслоняя нижнюю шконку с похрапывавшим юношей.