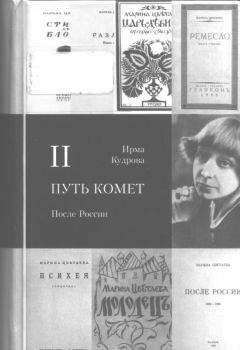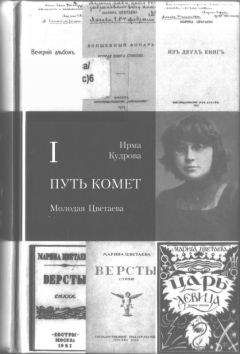Редакция журнала занимает всего одну комнату в доме на крохотной площади Ухельни Трх, — по преданию, именно здесь был выстроен в давние времена первый дом Старого Города. Сотрудники «Воли России» относятся к Цветаевой с неизменным дружелюбием, хотя, кроме Слонима, здесь мало кто понимает ее стихи. Не понимают, но верят и даже почитают, а самое главное — безотказно печатают. И исправно, без напоминаний, платят гонорары…
Марк Слоним с удовольствием показывает Цветаевой Прагу. Он обожает этот город, собирает о нем все исторические и фантастические предания и позже напишет книгу «По золотой тропе».
Ухельни Трх (Угольный рынок) — старейшая площадь города Марк Слоним. Рисунок А. Билиса. 1931 г.Они бродят по древней части города, где в узеньких улочках на подоконниках подслеповатых окошек стоят хилые цветы, а в утренние часы лежат пуховики и подушки. Старые дома с выцветшими ставнями украшены каменными гербами. Можно зайти в старую харчевню с деревянными лавками и законченным потолком, выпить кружку холодного пива. В одном из дворов слепец, сидя на складном стуле, просит милостыню, в другом — старик еврей пиликает на скрипке. Мальчишки везут на тачках мебель, мясо, зелень, истошно кричит грязный человек, за которым изможденные клячи тянут огромный фургон, — и навстречу ему хозяйки выносят из домов ведра с мусором.
Ближе к центру толпа на улицах становится гуще, на поворотах дребезжит трамвай, справа и слева — все больше лавок, и витрины становятся все шикарнее. В иных медленно кружатся парижские манекены, за зеркальными окнами кондитерских — заморские фрукты, снежные горы взбитых сливок, груды бутербродов. Чуть ли не у каждой витрины — толпа зевак. Около подъезда ресторана — швейцары с галунами, лакированный автомобиль ожидает своего хозяина; внутри же видны малиновые ковры, важные господа с лысинами и нагнувшиеся над столиками степенные официанты с карандашами и блокнотами в руках. На углу Вацлавского проспекта с цветной афиши улыбается Мэри Пикфорд, на другой афише — пес слушает голос хозяина, звучащий из граммофонной трубы. Вечерами зажигаются надписи дансингов, где завывает джаз-банд, над крышей редакций бегут прерывистые буквы новостей.
И все это — Прага, пробужденная после столетий насильственного сна.
После победы Республики в 1918 году пражане хотят, чтобы их город как можно скорее стал похож на другие столицы мира, и стремятся пересадить в Прагу все столичные выдумки. Из Америки возвращаются на родину чехи, привозя с собой размах и волю к переменам. В результате в разных кварталах города — наслоения разнородных стилей; от готики до барокко, и все же, считает Марк Львович, какое-то единство ощутимо встает из этого смешения архитектурной и исторической пестроты.
Прага. Карлов мостА вот и огромная Староместская площадь, окруженная приземистыми аркадами. Над ней возвышается островерхий Тынский собор, и на одной из его стен можно прочесть едва заметную надпись: vanitas vanitatis — суета сует. На этой площади прошла вся история Праги. Здесь началась Тридцатилетняя война. По этим камням ходил в XIV веке король Карл IV, мечтавший о том, чтобы Прага получила наследие Рима. Карлов век был эпохой возрождения Праги. Молодежь и ученые со всех сторон света съезжались тогда в только что основанный Карлом университет.
Неподалеку от площади Карлов мост — гордость горожан, символ Праги, такой же, каким стала позже для Парижа Эйфелева башня. Здесь, по преданию, замурован меч, которым святой Вацлав — покровитель города — в грозный час защитит Чехию. С обеих сторон моста — две высокие сторожевые башни, а на парапетах, справа и слева, — кресты, изваяния, фигуры святых…
У одной из каменных опор моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с поднятым мечом. Узкое лицо, из-под шлема выбиваются тонкие кудри, весной птицы вьют гнезда в сгибе его локтя. То ли это Роланд, то ли легендарный Брунсвик, меч которого сек головы всем врагам?.. Марина подолгу вглядывается в рыцаря: он кажется ей похожим на Сергея, мужа, — жертвенностью и чистотой облика…
Статуя рыцаря возле Карлова моста в ПрагеЗеленая Влтава кажется тут необыкновенно широкой и полноводной, а ее набережные станут любимейшим местом цветаевских прогулок.
Трудно сказать, когда именно удалось ей выхлопотать так называемое чешское иждивение — ежемесячное пособие, которое правительство Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых, оказавшихся в эти годы в Чехословакии. На одну студенческую стипендию Эфрона прожить втроем было, конечно, невозможно. На пропитание хватало, зато приобретение платья и обуви будет не по карману все чешские годы. Хорошо еще, что в Берлине Любовь Михайловна Эренбург почти силком заставила Марину купить простое платье крестьянского покроя. В нем мы и видим Цветаеву на фотографии, сделанной той же Катей Рейтлингер, — Марина рядом с мужем и дочерью. У Али тоже всего два платья, их приходится беспрерывно латать, и потому любимый сюжет ее фантазии — кошелек с двумя миллионами, случайно найденный на дороге. Еще больше, чем платьев, Але хочется книг — много разных книг! Но книги дороги…
В воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон этот первый год жизни в Чехии окрашен тем не менее почти что в идиллические тона. Отец в зимние вечера читает вслух при свете керосиновой лампы Диккенса или Гоголя; родители, сменяя друг друга, рассказывают засыпающей дочери нескончаемую сказку; утром Марина хлопочет вокруг мужа, готовя ему завтрак и провожая по понедельникам до самого поезда… Все это достоверно известно из дневниковых записей Али. Со времен Москвы она ежедневно заполняет — и это чуть ли не главное в ее домашнем обучении! — три-четыре странички дневника.
Однако живая достоверность многомерна. Самый тонкий наблюдатель не разглядит извне всех ее пластов. «Я живу по стольким руслам!..» — это признание много раз повторяется в цветаевских письмах. К нему стоит прислушаться.
2
В Чехословакии Марина переводит дух после четырехлетней изнурительной борьбы за хлеб и тепло домашнего очага. После четырехлетней, не отпускавшей ни на день тревоги за жизнь мужа. Она не может не ощущать облегчения, как от сброшенной с сердца глыбы. Муж уцелел, он рядом, он делит, насколько может, тяготы нового нелегкого быта…
Но понадобилось совсем немного времени, чтобы стало ясно: на смену прежним испытаниям шли другие.
За четыре года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что семейная ее жизнь в предреволюционные годы уже не была идиллической. Но издали, в разлуке, казалось, что теперь, может быть, все будет иначе. И в письме Волошину примерно через год после встречи с мужем на чужбине (10 мая 1923 года) она напишет: «Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера».