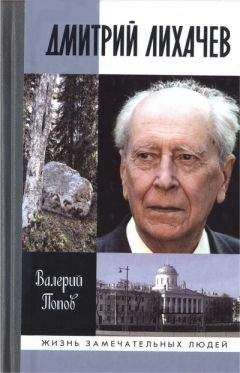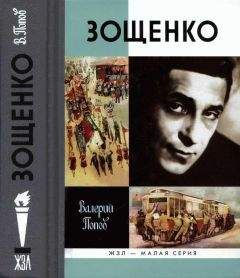Весьма твердая позиция: выбираю науку, а не политику!
Юный Дмитрий Лихачев мало рассказывает о себе — но характер его уже вырисовывается. Весьма заметны в нем выдержка, стойкость, некий упрямый педантизм: «Пусть хаос вокруг разрастается — я буду делать то, что считаю нужным». Эта его преданность научной истине, а не «модным течениям времени» и сделала его главным моральным авторитетом страны, но до этого пришлось пройти через множество испытаний. «Хождения по мукам» неизбежны в жизни праведника.
Уровень и широта знаний Мити Лихачева, выпускника школы, поразительны. Думаю, что нынешние выпускники не знают 99 процентов того, что знал он. Но удивительна и его жажда знаний.
«Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова, англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии»… А ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), где проходили замечательные дискуссии по вопросам искусства, в городе была интенсивная театральная жизнь, проводились выставки замечательных новых художников. И все это вошло в сознание юного Мити Лихачева, и после все поражались объему его эрудиции, а она — из тех бурных лет. И все это разнообразие не отвлекало, а наоборот — насыщало его, расширяло горизонты научной работы. Лихачев уже тогда интересуется «временными изменениями стиля в древнерусской литературе». При этом он еще сожалеет, что не успевает на выступления кумиров того времени — Есенина и Маяковского. Какую насыщенную, серьезную жизнь он вел — совсем еще молодой человек! Притом нет ни одного упоминания, как славно они «оттянулись» с друзьями в пивном баре, потрындели о том о сем. Такое показалось бы ему дикостью. Более серьезные вещи волновали его тогда.
После объявления красного террора 5 сентября 1918 года уже за первые месяцы были убиты один митрополит, восемь архиереев, десять священников, 154 дьякона и 94 монаха.
Те, кого это возмущало, стали больше ходить в церковь — и Лихачев среди них. Многие знаменитые оперные певцы бесплатно стали петь в церковном хоре. Участились расстрелы в ЧК на Гороховой, 2, в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне. Лихачевы жили на Ораниенбаумской — и при открытой форточке ночью доносились залпы: людей расстреливали в Петропавловской крепости, у речки Кронверки.
«Мы не пели патриотических песен, — вспоминает Лихачев, — мы плакали и молились. С этим чувством я и стал заниматься в 1923 году древнерусской литературой… Я хотел удержать в памяти Россию, как образ умирающей матери… Я окончил университет в 1928 году».
И как раз 1928 год, год окончания Лихачевым университета, отмечен приходом к власти Сталина и его диктатуры и началом гонения на кружки интеллигенции, на их встречи и их беседы. А кружков было много, интеллектуальная жизнь в городе была необыкновенно активна (из-за такой активности и арестованных было много). Молодой Лихачев был в самой гуще той жизни. Говорят, «перед смертью не надышишься», но все старались «надышаться». Столь интенсивного духовного общения не было, кажется, больше никогда. Бывшие школьные учителя не расставались с любимыми учениками и после школы, им было жалко терять друг друга. Они оказывались в семинарах, кружках, новоиспеченных «академиях» и продолжали спорить, философствовать, строить планы.
«Хельфернак» (что расшифровывалось как «Художественно-литературная, философская и научная академия») был одним из заведений такого рода.
«В двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского (интеллектуальное общение свело их, еще когда Лихачев учился в школе) на мансардном этаже дома на Церковной улице каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты. Помню (из самых знаменитых)… С. А. Аскольдова (Алексеева), В. М. Юдину, доктора Модеста Н. Моржецкого, В. Л. Комаровича, И. Е. Аничкова, Л. В. Георга, Е. П. Иванова, А. А. Гизетти, М. М. Бахтина, А. П. Сухова и многих других, а из молодежи — Володю Ракова, Федю Розенберга, Аркашу Селиванова, Валю Морозову, Колю Гурьева, Мишу Шапиро, Сережу Эйнерлинга. Всех не перечислишь. Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие, и где на страницах сверху своеобразным „готическим“ почерком Ивана Михайловича Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата. В 1927 году, когда время наступило опасное, один из самых молодых участников „Хельфернака“ Коля Гурьев завернул эту книгу протоколов в различные водоустойчивые материалы и закопал где-то на Крестовском острове».
Затем, в связи со все растущими притеснениями церкви, заседания стали принимать все более религиозный характер, и собрание стало именоваться «Братством святого Серафима Саровского». Так что говорить, будто направленность их собраний не имела никакого отношения к политике, будет неверно. Протест против уничтожения государством православной церкви явно присутствовал — а значит, то был протест и против этого государства.
И обнаружение в их среде провокатора, втягивающего их в откровенные и слишком громкие разговоры, явно говорит об интересе карательных органов к их собраниям, о подготовке ареста и шумного политического процесса. Пришлось объявить на очередном собрании о роспуске «братства». В тот раз им удалось спастись.
«Более безопасным, — вспоминает Лихачев, — казалось тогда общение в шутливых кружках. Казалось, никому в голову не придет преследовать людей, собирающихся, чтобы беззаботно провести время. Володя Раков, мой соклассник по Лентовской школе, пригласил меня бывать у них в „КАНе“ — „Космической академии наук“… Члены этой „академии“ летом прошли от Владикавказа до Сухума по Военно-осетинской дороге, обзавелись на Кавказе тросточками, заявили о своей верности дружбе, юмору и оптимизму… В нашем студенческом кружке, игравшем особенно значительную роль в нашей жизни того периода, когда свободная философия и религия постепенно становились запретными, неофициальными, непризнаваемыми, создавался своего рода маскарад не с целью какой-то конспирации. Напротив, шумные формы этого маскарада скорее могли привлечь внимание к нашему кружку. Так и случилось. Телеграмма якобы от папы римского с поздравлением к годовщине Академии привлекла внимание сверхбдительных организаций… 8 февраля 1928 года под утро за мной пришли».