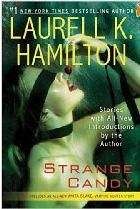Будучи историком, он писал о зарождении Киевской Руси, в эссе же, по его собственным словам, описал конец возникшей на ее месте империи. Вопреки советологам, занимавшимся в первую очередь импортированным с Запада марксизмом, он утверждал, что благодаря марксизму империя просто продержалось немного дольше, подобно Риму, который, приняв христианство, продлил свое существование на несколько столетий. Он не доказывал этот тезис, но, следуя ему, направлял острие критики против некоторых особенностей своей страны, в чем у него было немало предшественников, начиная с Чаадаева. Амальрик сравнивал государство царей и их преемников с кислым тестом, которое по инерции пучится и расползается. Залог скорого краха и утраты территориальных приобретений (Германия объединится, восточноевропейские страны обретут независимость) он видел в инертности умов «среднего класса», то есть бюрократии, уже неспособной принимать разумные и смелые решения. И предрекал, что многие из этих решений будут приняты лишь из страха потерять власть. Вообще, читая Амальрика, мы легко узнаем причины краха, о которых ведутся бесконечные споры, но уже задним числом, в то время как он выявил их раньше. Одна из этих причин — ментальность народа, которому чужды понятия достоинства и прав человека, который свободу отождествляет с анархией, справедливость видит в том, чтобы ближнему было так же плохо, как ему, а если кому-то живется лучше, то это несправедливо. Ко всему этому следует прибавить контраст между научным прогрессом и вековыми навыками. «Советские ракеты достигли Венеры — а картошку в деревне, где я живу, убирают руками. Это не должно казаться комичным сопоставлением, это разрыв, который может разверзнуться в пропасть. Дело не столько в том, как убирать картошку, но в том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого „ручного“ уровня».
Амальрик достоин восхищения как человек, свободный вопреки обстоятельствам, но я вовсе не пытаюсь сделать из него пророка. Он предсказывал войну России с Китаем, усматривая в ней одну из причин катастрофы (вместо нее была война в Афганистане). Предрекал он и апокалиптический конец, взрыв накопившихся в обществе кровожадных инстинктов, что не подтвердилось. Мне кажется, что за его попытками рационализировать свои предчувствия стоял опыт сибирского колхоза и ощущение безысходности жизни, которая была настолько нищенской и жестокой, что требовала исторического возмездия. Тем не менее перечисленные Амальриком причины кажутся мне недостаточными, и событие предстает перед нами во всей его невероятности.
С Андреем я познакомился в Пало-Альто в Калифорнии — с ним и его красавицей-женой Гюзелью, художницей, на которой он женился в Сибири. От Гюзели, татарки, я узнал, что родом она из Москвы, а отец ее был дворником — там это татарская профессия: «Когда-то мы правили Русью, а теперь они взяли реванш и сделали нас дворниками».
В Сибири и после освобождения Гюзель разделяла судьбу Андрея, поэтому ее не приняли в Союз художников, а значит, у нее не могло быть выставок. В Америке я не видел ее картин и не знаю, какой она была художницей. Она очаровала меня своей красотой и обаянием.
Амальрик не дожил до исполнения своих предсказаний. В 1980 году он погиб в автокатастрофе по дороге на какой-то конгресс в Испании. Я всегда пытался представить себе, что делала Гюзель, потеряв его, как она жила.
Вторым человеком, утверждавшим, что Советский Союз вскоре распадется, был литовский политолог Александрас Штромас, недавний эмигрант, профессор одного из американских университетов. Правда, наш общий друг Томас Венцлова тоже не предвещал этому государству долгого будущего с тех пор, как, отслужив в советской армии, узнал, какие там царят неразбериха и коррупция. Однако Штромас прямо заявлял, что оно продержится еще несколько лет, но никак не десятилетий.
Америка
Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесчеловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка противоположностей может (хотя и не обязательно должна) открыться перед успешными иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже больше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе тюрем, в которых держат ненужных людей, настраивала меня скептически по отношению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий.
В школьные годы Америка являлась мне белым хлебом и чашкой какао в рамках продовольственной помощи Гувера и даже рубашками в голубую полоску, а вскоре после этого — фильмами с Мэри Пикфорд и Чаплином. И как бы я удивился, восхищаясь несколько позже актрисой Сильвией Сидни, если бы кто-нибудь сказал мне, что моя и ее фотографии будут соседствовать на страницах «American Biography»[49]. Кино означало, что экспансия Америки уже началась, но то же самое означали и некоторые улицы — такие как Немецкая в Вильно или та улица в Дрогобыче, которую Бруно Шульц описал под названием улицы Крокодилов. Как я мог потом убедиться, на них были похожи бедные улицы в восточной части Манхэттена.
В этом столетии «зверь, выходящий из моря», поверг всех своих противников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека. Попытка создать «нового человека» на основе утопических принципов была поистине титанической, и те, кто ex post недооценивают ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил «старый человек», и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядываясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Расходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить в превосходстве своей модели — даже в покоренных странах Европы, которые воспринимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров.
Противопоставляя демократическую Америку мрачному восточному тоталитаризму, «холодная война» лишала многих людей свободы суждений и даже ясности видения, коль скоро отсутствие энтузиазма к Америке могло восприниматься как крен в сторону коммунизма.
Двадцатый век перенес Америку в новую, неизвестную ей прежде реальность. В начале столетия художники и писатели бежали из страны, которая считалась тупой, материалистической, занятой только погоней за деньгами, в старые культурные центры Парижа и Лондона. В конце столетия художники и писатели из разных стран ездят в Америку как в страну невероятных возможностей. Уже не Париж, а Нью-Йорк становится мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к чему-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафедры, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии.