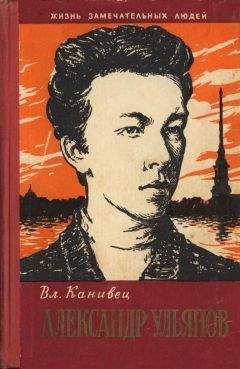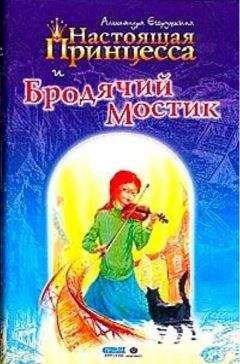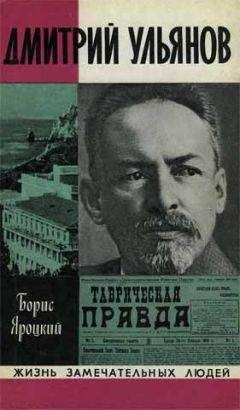Саша научился у Карпия ловко управлять лодкой-душегубкой и днями пропадал на реке. Как-то Аня упросила его, чтобы он и ее взял с собой. Саша не мог отказать, и они поплыли вдвоем. Утро было теплое, солнечное. День разгорался хороший. Но к обеду налетел ветер, небо затянуло тучами, начал накрапывать дождь. Ни плаща, ни зонтика Аня не захватила, а была простужена, и Саша забеспокоился.
— Очень замерзла? — тревожно спрашивал он, со всех сил налегая на весла.
— Ничего…
До Кокушкино было еше далеко, и Саша предложил:
— Давай пристанем в Татарском и зайдем к Карпию?
— Хорошо, — согласилась Аня. — Я давно хочу посмотреть, как он живет. Вчера, когда он ушел от нас, отец сказал маме: «Вот настоящий поэт и философ». Это его изба? Странно, но я почему-то такой ее и представляла…
— Бежим! — схватив ее за руку, крикнул Саша.
Гроза, полыхая молниями, подошла к деревне, и хлынул дождь.
— Э, каких гроза мне гостей пригнала! — удивленно воскликнул Карпий. — Вот уж истинно, как в сказке: «И послал царь огонь да царица водица нм землю-матушку чудо капелек — дочерей своих. И заполыхали на земле капельки эти цветами-красавицами несказанными…» О, как вы, барышня, кашляете! Садитесь ближе к огню, — предлагая Ане единственную табуретку, говорил Карпий, — а я только с рыбалки вернулся, уху наладил, да такую, точно по заказу: из ершей, из окуньков. Слышите, каким она ароматом дышит? Сейчас я вас угощу…
Аня дрожала от холода, она сильно промокла, и обжигающе-горячая уха показалась ей очень вкусной.
— Вспомнилась мне одна история, — начал рассказывать Карпий. — Давно это было, а до сих пор у меня те дети перед глазами стоят. Ходил я с отцом в Казань на ярмарку. При царе Николае это еще было. На обратной дороге нас дождь так вот, как вас, накрыл. Свернули мы с тракта к одному знакомому мужику. Заходим в избу — что за оказия: полно ребятишек. В солдатских шинелях. Все мокрые, грязные, замученные. И по обличью видать: не наши, не русские. «Где ты, Матвей, — говорит отец, — их подобрал?» Матвей только рукой махнул. Что ж оказалось: то под конвоем гнали куда-то жиденят, как самых последних арестантов. Зашел тут и солдат-конвоир с сухарями. Оделил всех. Они взяли сухарики, гляжу — ах, господи! — у многих-то и силенки недостает откусить от того сухаря. У меня и сердце кровью зашлось. «За какие же грехи смертные на них такая кара наложена?» — спрашивает отец солдата. «А про то начальству, мол, лучше знать». — «Да они же помрут все!» — говорит отец ему. «Видно, так, — отвечает солдат, — мы уж половину, почитай, похоронили, а дороге-то конца не видно…»
Карпий встал, тряхнул большой седой головой, прошелся несколько раз из угла в угол по тесной комнатке и только тогда продолжал. В голосе его звучали уже не боль и страдание, а неистовый гнев.
— Не успели эти мученики отогреться и сухари погрызть, как кто-то постучал в окно и крикнул: «Строиться!» Дождь моросил, грязь была непролазная, а маленькие каторжники, зажав сухари в ручонках, брели прямо в могилы свои. Мы с отцом, сами не зная зачем, тоже пошли за ними. Уже за околицей упал один в лужу и начал барахтаться, стеная, как слепой кутенок. Отец кинулся поднять его. Но тут другой упал, третий…
Гроза, побушевав над деревней, отступала к Черемышевскому лесу. Глянуло солнце, и капли на окне заискрились. За рекой огромной подковой вставала радуга. Трава, кусты, деревья — все так сверкало, что больно было смотреть.
— Благодать-то какая! — вздохнув всей грудью, радостно воскликнул Карпий. — Люблю! И грозу и радугу. И когда гляжу на всю эту красоту господню, так здесь вот, — он обхватил руками свою широкую грудь, — и теснится что-то такое, а слов не хватает, чтобы сказать… Так заходите при случае.
— Спасибо, — ответил Саша и крепко пожал руку Карпия. Он всю дорогу молчал и, только когда причалил в Кокушкино, сказал: — Славный человек.
— Изумительный! — восторженно отозвалась Аня, которой давно хотелось сказать свое мнение, но она не решалась, видя, с какой глубокой сосредоточенностью Саша обдумывает разговор с Карпием. — Я просто влюблена в него! И как жаль, что жизнь его сложилась трудно…
— А почему? — с несвойственной ему резкостью воскликнул Саша. — Кто виноват? Кто тех детей замучил? Кто в тюрьмы сажает лучших людей? Кто в Сибирь их гонит? Царь, вот кто! И не зря в него стреляют!
7
Звонок давно уже затих, а учитель латинского языка Пятницкий не торопится отпускать шестой класс. Презрительно морща худое, желчное лицо, он продолжает задавать каверзные вопросы потеющему у доски Вале Умову.
— Так-с… — цедит он сквозь редкие гнилые зубы и, наслаждаясь собственным красноречием, ядовито спрашивает: — Вы сами, если, разумеется, не секрет, сделали сие открытие или, быть может, у кого-то позаимствовали? Гм… Судя по тому, как скромно вы молчите, надо полагать, человечество обязано вам, не так ли? Очень хорошо-с. Одно только жаль: ваше открытие, уважаемый, опоздало ровно… Волков, может, вы мне поможете подсчитать, на сколько столетий опоздало это открытие?
— Мне кажется, уже звонок был, — хмурясь и неохотно поднимаясь с места, отвечает Волков.
— Благодарю вас. И прошу, извольте пройти вместе со мной к директору. А в журнал я вам ставлю единицу. Вот так-с… Садитесь, Умов. Вас я вынужден порадовать нулем…
— За что же? Я сделал перевод…
— Хорошо-с… Чтобы вы не завидовали Волкову, ставлю и вам единицу по поведению. До свидания, господа!
Стук закрытой Пятницким двери отдался в классе неистовым взрывом негодования. Все закричали, воинственно размахивая руками. В первые минуты голоса сливались в общий гул, и только после того, как страсти утихли, Саше удалось разобрать, что кричит Волков:
— Избить! Предлагаю избить!
— Освистать!
— Тише, друзья!
— Предлагаю…
— Избить!! — громче всех кричал Волков.
За шумом никто не слышал звонка, и все утихли только тогда, когда в дверях появился новый учитель.
После уроков все пошли к Волге и, перебивая друг друга, строили планы мести своему ненавистному врагу. Решили так: не отвечать на вопросы Пятницкого. Отказываться спокойно, вежливо, но — это предложил Саша — урок знать назубок.
Первые ноли и единицы Пятницкий поставил с большим наслаждением. Но когда на ногах стояла уже половина класса, а вновь вызванные продолжали отказываться отвечать, он почувствовал, что затеяно что-то недоброе. Пристальным взглядом своих маленьких вечно красных глаз он обежал всех, спросил:
— Кто может ответить?
Все только головы опустили ниже.
— Ульянов! Прошу! — забыв о ехидно издевательском тоне, крикнул Пятницкий.