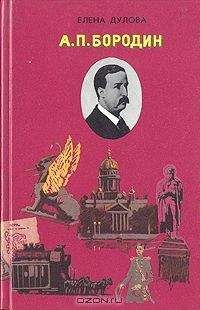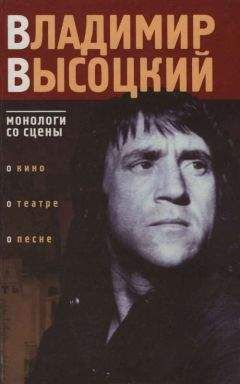Вот уж когда мне горе да радость пополам будут. Ах, Сашенька, Сашенька. Я ли не радовалась твоей учености, я ли не старалась обо всем, до этого касающегося. Да не перестаралась ли? Для простой-то жизни что толку, что он шибко учен: ведь по сию пору за ним доглядывать надо. В науках своих — профессор, а дома — дитя малое. Ел ли, пил ли, случается, ничего не помнит. Не позовешь да не подашь — и голодом себя уморит, сам не заметит как. А за костюмом кто следить станет? Ведь уж лекарем служил, вовсе не давно дело было, летом: отправился он в клинику. А я в окошко гляжу, как он пойдет, — всегда я его на путь перекрестить должна. Он и не обернется, и не заметит, а у меня душа покойна. Вижу: вышел из подъезда — в мундире, при шпаге, в фуражке, честь честью. Только совершенно без брюк, голубчик мой, в одних кальсонах. Я обмерла и осторожно так зову: «Сашура, вернись милый, поручение тебе забыла…» Вернулся, а я ему навстречу с брюками-то. Он глянул на себя — да как примется хохотать. Вот ведь, профессор-то мой ученый… И за границей по рассеянности его всякий конфуз случиться может. А уж барыни-то за ним ухаживают, просто как мухи на мед летят. Ну хорошо, он теперь домашнюю ласку видит, а как одинокий да неухоженный станет жить — тут и попадется какая-нибудь… А он, красавчик, ведь не Иосиф Прекрасный, чтобы от женской-то ласки бегать. Ох, не знаю, как оно теперь все устроится?
БОРОДИН
Чего жаждет всякий русский человек, намаявшись в дороге? Перво-наперво — отправиться в баню и отпарить бренное тело, а вместе с тем и воспарить душою. Но не тут-то было. В порядочном немецком городке Гейдельберге нравы строгие. Бани тут нет. Зато есть удивительное заведение, именуемое ванною. Встречает вас весьма любезная хозяйка и сообщает, что у нее есть все: действительно, у нее есть все. И ванны, и ноты, и туалетные принадлежности, и музыкальные инструменты. Возьму на прокат фортепьяно или фисгармонику, это здесь дешево. А покамест стану искать квартиру и определюсь в учение. Экий умница Менделеев, как он тут отлично устроился. У него уж и лаборатория своя, и чистенько, и даже газ проведен. Однако что-то в голове моей не то звон, не то пустозвон стоит. И точно, для первого дня многовато: со всем русским пансионом перезнакомился, бифштексов и пудингов переел, увертюру Глинки отгремел, лабораторию менделеевскую повидал, в заморской ванне отмок и вполне уж готов броситься в объятия Морфея.
ОТ АВТОРА
Несколько дней наш герой без устали бегает по городу в поисках квартиры. Размышляет, в какой лаборатории работать. Конечно, есть общественная лаборатория Гейдельбергского университета. Но здесь много времени уходит даром: надо ждать своей очереди, чтобы пользоваться печами, приборами, посудой. К тому же время ограничено — только до пяти часов, а по субботам и воскресеньям занятий вовсе не бывает. Когда же тут работать? И Бородин выбирает лабораторию доктора Эрленмейера, приват-доцента при университете. Конечно, надо платить двойную цену. Да разве постоишь за ценой, если речь идет об удобстве и независимости? Вскоре найдена и квартира, буквально в двух шагах от лаборатории.
БОРОДИН
У меня теперь свое совершенно отдельное помещение. И работать можно сколько угодно, в любое время суток. Теперь жизнь моя сосредоточится в лаборатории. Вот что есть счастье: работать много, со вкусом и наслаждаться полной независимостью.
Не-ет, Европа — это вам, господа, не что-нибудь! Ну вот, прогуливаюсь я нынче после дождика без калош и вспоминаю, как «тетушка» хлопотала, чтобы всенепременно снабдить меня этим предметом первой российской необходимости. Да о каких калошах может идти речь, ежели каждую субботу здесь моют с мылом не только тротуар, но и мостовую возле своего дома! Да, очень миленький и очень чистенький этот городок, Гей-дельберг. Только отчего тоска одолевает? Прелесть что за дома: эти окошечки, занавесочки, горшочки, цветочки… И сплошь обвиты плющом. Дороги прекрасны, трактиры богаты, крестьяне основательны и аккуратны. Восхищаюсь. Восхитился раз, восхитился два, ну, десять раз восхитился! — а потом такая тоска схватила, хоть волком вой, хоть посуду бей, хоть бегом беги в Россию. И побежал… к Дмитрию Ивановичу Менделееву. Кинулся, чтобы поскорее увидеть всех наших, посланных «для усовершенствования». Ну вот она, родимая бестолковщина. Кто ест, кто пьет, кто табак курит, кто шумит; то все говорят разом, и ничего разобрать невозможно, кроме того, что «пора, господа, за народ и справедливость»… Вот и замечательно. Свои. За этим шумом-то много вещей пресерьезных. И наговоримся, и душа заноет, как начнет кто-нибудь вслух читать Гончарова или обсуждать положение науки нашей. И тащат меня к фортепьяно, и я нажариваю вальсы, польки да попурри.
Короче всех я сошелся с Менделеевым и Иваном Сеченовым. Прежде всего на почве «химикальной», разумеется. Отличные господа. Все меж нами просто, дельно и дружественно.
ОТ АВТОРА
Жизнь молодых русских в Гейдельберге течет на редкость смирно и однообразно. Целыми днями — работа, работа. А они только посмеиваются довольно: «Наука требует жертв!» Главный авторитет, конечно, Менделеев. Неважно, что он еще очень молод. Все дружно признают: талантище, готовый химик. И вся эта ученая братия с особенной благодарностью относится к Бородину. Вот уж кто не даст заскучать от «музыкальной голодухи»! Играет все, что ни попросят. Играет, ни секунды не задумываясь, без нот.
СЕЧЕНОВ
Какое счастье, что у Бородина на квартире есть пианино! Да и вообще уютно у него. Даже с претензией «на роскошь». Драпировки, потолок изящно расписан, ковер во весь пол, зеркала, статуэтки. Ого, а это что — специально для медикуса? Как говорится, «не в бровь, а в глаз»! Верчу в руках статуэтку Эскулапа.
— Признайся, дружище Бородин, ведь ты нанял эту квартиру, не устояв перед столь символическим украшением?
И он, со своей добродушной улыбкой, отвечает эдак лукаво:
— Нет, Иван Михайлович, Эскулапом меня не купишь. Я прельстился садом с соловьями. Один поет днем, другой — вечером, третий — ночь напролет. Обожди, скоро заведет трели.
Ну что, думаю я, соловьи. Их я уж в Сокольниках, московским студентом, вдоволь наслушался. И ворчу:
— Трели, трели… Ежели бы он мне Розину спел или еще что…
А глаза у Бородина озорные.
— Брось, брат ты мой, соловью эдакие коленца ни к чему. Ему серебром сыпать положено. А вот я тебя готов попотчевать. Все что хочешь. «Севильский цирюльник»? Заказывай?
Он садится за инструмент, у меня сладко замирает в груди.
— Начинай с увертюры, Александр Порфирьич.
Слушаю я его с восторгом и в полном забвении окружающего. Маг! Чародей' И, уходя, думаю, ведь это уже отдает не одним только развлечением. Похоже, наш друг в серьезном увлечении музыкой, а?