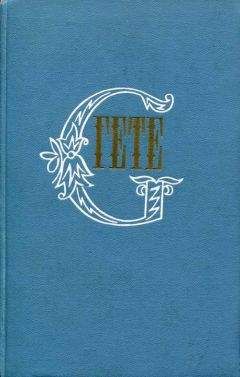Рассуждая об этих предметах, мы прогуливались взад и вперед по росистой траве. Поощряемый резонными вопросами и встречными замечаниями, я продолжал излагать свою теорию, покуда холод наступившего утра не заставил нас пристроиться к биваку австрийцев. Их всю ночь напролет горевшие костры представляли собою огромный круг раскаленного угля, обдававшего нас благотворным теплом. Страстно увлеченный предметом, которым я занимался всего лишь два года и каковой еще бродил во мне, как молодое вино, я, быть может, не слишком бы даже интересовался, слушает меня князь или нет, если б он время от времени не вставлял разумные реплики, а под конец, подхватив нить моего доклада, не поощрил бы меня своим милостивым одобрением.
Как я не раз уже замечал, обсуждать серьезные вопросы, в том числе и научные, всего приятнее с власть имущими, владетельными особами и высокопоставленными администраторами, которым часто приходится выслушивать доклады касательно предметов, им незнакомых; тем внимательнее они слушают докладчика, преследуя единственную цель: не дать себя ввести в обман, а значит, уяснить себе существо вопроса. Напротив, рядовой ученый более склонен слушать только то, чему его учили, чему он и сам обучает своих учеников и о чем он давно договорился со своими коллегами. Место обсуждаемого предмета здесь заступает его credo, — ведь держаться общепринятого научного догмата столь же спокойно, как любого другого догматического учения.
Утро было свежее, но сухое. Намерзшись и нажарившись, мы опять зашагали вдоль ограды, как вдруг заметили какое-то движение возле виноградников. Это был пикет здесь переночевавших егерей, спешно бравших теперь свои карабины и ранцы, чтобы направиться в испепеленное предместье и, там окопавшись, нарушать покой осажденного города, поражая одиночные цели. Идя навстречу своей более чем вероятной гибели, солдаты горланили похабные песни, что, ввиду предстоящего, было, пожалуй, и дозволительно.
Только егеря удалились, как я увидел, что на стене, возле которой они отдыхали, обнаружился любопытнейший геологический феномен: на карнизе, венчавшем белую известняковую кладку ограды, красовались камешки цвета бледно-зеленой яшмы. Я был изумлен свыше меры. Откуда они сюда попали, да еще в таком количестве? Не могли же они затесаться в известняковый раствор? Но разгадка этого морока, этого мнимого чуда, долго ждать себя не заставила. Приблизившись к известковой стене, я тотчас же установил, что эти яшмовые камешки были не чем иным, как мякишем заплесневелого хлеба. Поскольку есть их было невозможно, егеря, с юмором висельника, изукрасили ими ограду.
Это навело нас на разговор о бесконечных толках, участившихся с первых же дней, как мы вступили на территорию противника, — толках об отравлениях пищей, многих ввергших в панический ужас. Подозрения вызывали не только яства, подаваемые в трактирах, но даже хлеб собственной выпечки, хотя его заплесневелость объяснялась совсем другими, вполне естественными причинами.
Первого сентября, около восьми часов утра, обстрел города прекратился, хотя обе стороны изредка еще и обменивались отдельными ядрами. Осажденные нет-нет да палили в нас двадцатичетырехфунтовыми снарядами, чему и сами не придавали серьезного значения.
На голом холме, в стороне от виноградников, как раз против этого мощного орудия, были выставлены дозорными два гусара, получившие задание зорко наблюдать за всем, что творилось в крепости и на пустом пространстве, отделявшем нас от города. За все время, что они стояли в дозоре, с ними ничего не стряслось. Но поскольку при смене постовых число солдат на короткий срок удваивалось и сверх того набегало немало праздных зрителей, осажденные при виде такого скопища народа, не мешкая, произвели одиночный выстрел. В этот миг я стоял в ста шагах от набежавших ротозеев, обратившись спиной к гусарам, беседуя с подошедшим приятелем, как вдруг услышал позади себя свирепо свистящий, устрашающий звук снаряда и тотчас круто повернулся. Не могу сказать, чем было вызвано мое вращательное движение: угрожающим ли звуком, воздушной ли волной или душевным потрясением. Я только успел заметить, что ядро рикошетом сокрушило часть загородки и разметало толпу зевак в разные стороны. А затем люди с криком помчались за ядром, утратившим свою губительную силу. Все были целехоньки и, овладев железным шаром, торжественно обошли с ним присутствующих.
Около полудня был нами вторично направлен ультиматум о сдаче крепости, в ответ на что комендант испросил себе двадцать четыре часа на раздумья. Мы тоже воспользовались этими часами, чтобы привести себя в надлежащий вид, запастись провиантом, объездить окрестности, причем я не раз возвращался к пресловутой воронке, обогатившей мои оптические познания. Теперь я мог спокойно продолжить свои опыты, так как все рыбки были уже выловлены, и ничем не замутненная вода давала полную возможность продолжить игру с опускавшимися на дно язычками пламени. Настроение у всех нас было превосходное.
Но несчастный случай вновь напомнил нам о войне. Какой-то офицер-артиллерист повел своего коня на водопой, так как припасенной воды у нас явно недоставало, а моя воронка, мимо которой он проехал, была так далеко расположена от дороги, что он ее не заметил. Он подъехал к протекавшему поблизости Маасу, но крутой песчаный берег вдруг отломился и пополз вместе с конем и всадником в реку. Лошадь спасли, но выловленное тело артиллериста пронесли мимо нас бездыханным.
Вскоре после этого раздался сильный взрыв в месторасположении австрийцев, на склоне холма, нам отлично видном. Взрывы повторялись, каждый раз взметая высокий столб дыма. Огонь вспыхнул по оплошности, допущенной при набивании снарядов. Возникло крайне опасное положение, тем более что пламя уже подбиралось к заряженным минам. Можно было ожидать, что весь артиллерийский парк взлетит на воздух. Но эту беду предотвратила геройская храбрость кесарцев. Презрев опасность, они поспешно вынесли за пределы парка и порох, и начиненные бомбы.
Так прошел и этот день. А наутро крепость сдалась и город перешел в наши руки. Тут мы имели случай ознакомиться с характерной чертой республиканского патриотизма. Теснимый гражданами Вердена, в свою очередь потесненными нами, — разрушение и предание огню родного города было для них равнозначным светопреставлению, — комендант (его звали Бонрепе) не посмел более оттягивать сдачу крепости. Но, подав свой голос на собравшемся в полном составе Городском совете за немедленную капитуляцию, он тут же выхватил пистолет и застрелился, явив достойный пример патриотического самопожертвования.