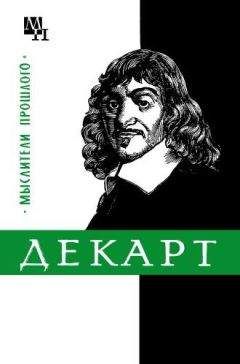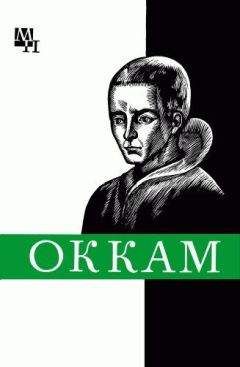Во-вторых, даже вне сопоставления разных запретов и предписаний (вне проблемы сближения разных отношений) антитетичность, осмысленная логически, в своем внутреннем, имманентном движении выводила за свои пределы. Предельная точность определения какого-либо действия или приема, доведение до логического завершения тонкости этого определения неожиданно оборачивались или абсурдом, или противоположным определением. Николай Кузанский отметил эту особенность антитетического строя мышления; он понимал, что бесконечное уточнение тезиса переводит его в антитезис, бесконечный круг тождествен прямой линии, в потенции все вещи (и все утверждения!) тождественны. «Парадокс» как результат развития антитетического строя оборачивается (опять-таки в потенции) парой «докс»-учений, мнений, и в этой ситуации сомнение неизбежно перерастает в «co-мнение», в наличие (по крайней мере) двух мнений.
Соотношение бытия и мышления в средние века, таким образом, представлялось антитезой: чем предмет могущественнее сам по себе, тем он ничтожнее (тем менее он причастился целого); или — чем предмет ничтожнее как цель, тем более могуществен он как средство (ремесленник: навык, опыт). В плане этой антитезы происходит и расщепление единого средневекового субъекта деятельности на субъекта абсолютного — посмертного, вечного, входящего в смертных людей в ритуальной форме цеховых правил рецептуры, авторитета великого Мастера, — и субъекта индивидуального, маленького и ничтожного. В этом расщеплении осуществлялось и своеобразное «со-общение»: по принципу «сообщающихся сосудов», где «сосуд» маленький, смертный, ничтожный именно в своем уничижении приобщается «сосуда» вечного и неизменного, приобщается Вселенского опыта и тем самым становится могущественнее.
И вот теперь, когда читатель хоть в какой-то мере представил всю сложность схоластической культуры мышления и понял, что это действительно культура, он, наверное, задумается над своей первой поспешной догадкой о том, зачем «нужна была» схоластика Декарту. Идя навстречу этим раздумьям, сформулируем заранее такое предположение, которое будет развито впоследствии: и метод Декарта, и вся картезианская культура сомнения были бы невозможны без двойственного отношения к схоластике: (1) как к предмету преодоления и как (2) к источнику формирования самой картезианской культуры мышления. Но начнем с первого — с сомнений и преодолений юного Ренэ Декарта.
Итак, единственная реальность, данная школяру Ренэ во все годы обучения в коллегии, — это уклад, строй жизни в ее стенах, это книжный мир схоластических мыслителей и узкий мирок лекций, репетиций, традиционных развлечений. В Ля Флеши делалось все, чтобы жизнь в ее пределах текла строго по канонам средневековья. Но…
Но (это — другое «но», «но»-интермедия) сначала об одном интересном эксперименте, проведенном в наше время учеными. Из-под наседки незадолго до появления цыплят вынули одно яйцо и поместили в инкубатор. Когда из него вылупился цыпленок, перед его еще не совсем прояснившимся взором несколько раз прокатили игрушечную коляску. И все. После этого цыпленка присоединили к другим цыплятам, появившимся на свет из-под наседки одновременно с ним. Спустя некоторое время, когда однажды курица-мать совершала прогулку, а за ней тянулся выводок, экспериментаторы прокатили перед ними коляску. Все цыплята продолжали следовать за матерью — все, кроме одного, того самого, который вылупился в инкубаторе: нарушив строй, он пошел за коляской…
Вероятно, многие из воспитанников коллегии, методично шагавших за отцами-наставниками по проторенной от века дороге знания, смутно ощущали неудовлетворенность преподносимым им выверенным набором истин. Но они медленно брели по одной дороге, конца которой не было видно, а всюду по бокам терялось в мареве горизонта множество других дорог, запретных и опасных: «налево пойдешь — костей не соберешь…». Так что волей-неволей в каком-то уголке сознания прочно сохранялась вера во всеведение Ведущего и Знающего Истину.
Декарт из строя выпал в самом начале пути. Не будучи связан уставной скоростью движения колонны на марше, он не только обогнал других в направлении общего пути, но и успел пройтись по многим запретным проселкам. Результат известен: день ото дня возраставшая неудовлетворенность.
К концу срока обучения Декарт был уже открыт сомнению, как говорится, телом и душой. Декарт выпал из единого строя — жизненного уклада, выпал из единого «строя» (средневекового) мышления, отринул никчемную книжную науку и с ней всю схоластику. За что же удержалась мысль Декарта, каковы те зацепки, что не позволили ей «скатиться на самое дно пропасти» (11, стр. 269) тотального скепсиса?
Тени, сгустившиеся во всех закоулках Ля Флеши, свидетельствовали не о том, что «ночь» еще длится; они говорили, что уже светает, что туманная мгла на поверку оказывается мглой предутренней. Неба средневековой Франции достигли первые лучи солнца Возрождения, сиявшего в зените италийских небес. Поскольку серьезные вещи, в силу своей мракобесности, обладали абсолютной светопоглощаемостью, обратимся к вещам несерьезным — к упомянутым развлечениям, попытаемся там разглядеть «блики» этих лучей.
После смерти Генриха IV согласно завещанию коллегии Ля Флешь было передано сердце ее высокого покровителя для вечного упокоения. Дата смерти ежегодно торжественно отмечалась в коллегии. Силами ляфлешианской самодеятельности разыгрывалось целое театрализованное представление, программа которого была составлена из различных жанров.
Особенно торжественно отмечалась первая годовщина смерти короля — 6 июня 1611 года. Среди прочего во время представления был прочитан сонет с длинным, по средневековому обычаю, названием: «На смерть Генриха Великого и на открытие нескольких новых планет или звезд, вращающихся вокруг Юпитера, сделанное в истекшем году Галилеем, знаменитым математиком великого герцога Флоренции». Выделенные курсивом слова показывают, с какой необычной для средневековья оперативностью сведения о новых великих открытиях эпохи достигали Ля Флеши. Для правоверных эти открытия были новыми проявлениями могущества всеблагого господа. Перед цыпленком же декартова ума патеры-иезуиты, сами того не ведая, «прокатили коляску» нового, чрезвычайного и необычайного. Взор «цыпленка» еще не прояснился; тем не менее примерно семь лет спустя Декарт сразу различит «коляску» среди множества машин и механических игрушек-автоматов, с которыми ему придется столкнуться.
В сонете, в частности, говорилось о Галилеевых оптических трубах, посредством которых флорентийский астроном-математик совершил свои знаменательные открытия. Все эти потрясающие сведения целиком выпадали из единого школьного курса, носили, так сказать, факультативный характер, и это помогло им удержаться в сознании Декарта, когда он предпринял генеральную чистку оного. Особую значимость они обретали также потому, что автор представлен был как математик. Уже одно это внушало доверие, так как и те сведения из области математики, которыми располагал Декарт в Ля Флеши, были весьма незначительны и носили, в отличие от логики, разрозненный, несистематический характер, то есть статут их был, можно сказать, столь же факультативен, как и статут сведений из оптики. Помимо работ X. Клавиуса, по которым изучался классический средневековый «квадривиум» («четверица») математических дисциплин — арифметики, геометрии, музыки, астрономии, Декарт самостоятельно проштудировал «Собрания» Паппа, где, в частности, помещены были некоторые теоремы и их доказательства из работ Архимеда. В ближайшее время знакомство с этими работами также сыграет большую роль в формировании новых идей Декарта. Но в момент окончания коллегии ни лекционные курсы, ни труды древних математиков не принесли полного удовлетворения.