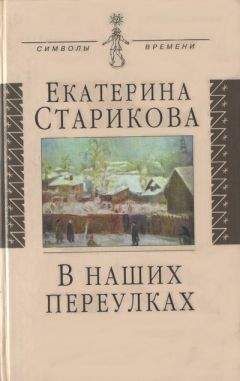У хозяев отца, видимо, не было своих детей, а, может быть, они уже выросли к тому времени, когда ландехский житель появился во Владимирской слободе. Во всяком случае к «мальчику» в магазине относились как к младшему члену в строгой патриархальной семье. Скуповатая и суховатая хозяйка время от времени наведывалась в лавку и отдавала распоряжение приказчику: «А ну-ка, отбери лоскутков Васютке на рубашки». И сама шила ему сразу несколько сатиновых рубашек. Розовые, голубые, в полосочку и в цветочек, они приводили деревенского мальчика в восторг и количеством, и новым блеском ткани — мог ли он дома мечтать о стольких обновах сразу? А хозяйка еще следила, чтобы по праздникам он, подпоясавшись пояском, на конец его подвешивал бы гребешочек, предварительно гладко причесавшись и смазав кудрявые волосы деревянным маслом.
Ну а кроме новых рубашек, чего стоило обилие астраханских арбузов? Для жителя глухой северной деревни арбуз — самое диковинное лакомство. Раз в год на ярмарке в Ландехе, что устраивалась в день покрова Богородицы на соборной площади, иногда продавали арбузы, но ломтями, о целом никто и не мечтал. А тут, в Астрахани, в первый же день по приезде после обеда хозяйка спросила нового работника:
— А ты, Васютка, будешь чай пить или арбуз есть?
Он очень удивился такому выбору, но еще больше был поражен, получив в полное свое распоряжение целый арбуз и ломоть прекрасного белого хлеба. И долго еще не мог привыкнуть к этому астраханскому угощению, удивляясь, что взрослые приказчики предпочитали ему чай в скупую прикуску. Только потом он понял, как дорожила хозяйка каждым куском сахара и как была довольна его выбором — арбузы, в отличие от сахара, здесь ничего не стоили.
Ну а рыба? Обилие и вкус астраханской рыбы тоже его, лесного жителя, долго поражали. А необычные овощи? Понадобилось много времени, чтобы он, взращенный на грибах, квасе и пшенной каше, привык к помидорам, до Астрахани он их и не видел и поначалу они вызывали в нем отвращение. А верблюды? Киргизы? Восточный базар? А громадность великой реки, на берегу которой он теперь жил и рос?
В общем, воспоминания отца о жизни в слободе Владимирской были скорее любовными и уютными, чем грустными. Там открылась ему широта мира. Впрочем, как и всегда у него, и эти волжские воспоминания были крайне скупыми.
Потому-то — сразу из-за этих двух причин вместе — не очень понятным видится мне тот поворот в его биографии в 1905 году, который прервал его астраханское житье и привел в Сибирь.
Я с детства знала, что отец мой как-то причастен к революции, но все, что касалось этой стороны его жизни, осталось для меня смутным, неопределенным, туманным. Сам он никогда на эту тему не заговаривал. Может, и так молчалив был, привыкнув не распространяться о самом важном? В нашей жизни такое воздействие обстоятельств на склад характера не столь уж редко.
В 1957 году, летом, отец слег в постель с инфарктом. Это случилось вскоре после того, как они с Анной Ивановной получили комнату на 3-й Фрунзенской улице — с балконом, ванной, кухней, в двухкомнатной квартире, где их соседями оказалась супружеская пожилая пара. По тем временам все это виделось просто роскошным, и боюсь, что радостное волнение по поводу переезда и стало причиной болезни.
Он лежал неподвижно — такой тогда применялся основной метод лечения инфаркта, — а я читала ему вслух «Известия»: сообщение об «антипартийной группе и о примкнувшему к ней Шепилову». Я читала, а он время от времени приговаривал: «Какой позор, какой позор». Я же боялась спросить, что именно он считает позором, подозревая, что скорее всего мы не сойдемся с ним в оценке событий, а спорить с ним было не время, да мы с ним никогда и не спорили. И еще он тогда мне сказал: «Не выписывай мне больше „Известий“. Я привык к „Правде“. Я ведь с 1912 года читаю „Правду“». Его явно раздражали аджубеевские новшества, но раздражали они нас, вероятно, по-разному. Только мы так давно уже привыкли в нашей семье ничего не договаривать до конца, а лишь догадываться о главном, молча страдая друг за друга. И я обещала больше никогда не выписывать ему «Известий», сжимая в своих руках его большую и все еще сильную суховатую руку.
Во всяком случае не от отца я услышала о его былой деятельности, а догадалась о ней по разрозненным репликам и оговоркам моей более эмоциональной и смелой матери. Когда в 30-е годы стали все чаще появляться в печати какие-то сведения из биографии Сталина, мама ворчала: «Кто о нем раньше слышал и знал? Да ваш отец ничуть не меньшую роль играл в Иркутске. Тоже мне великий революционер!» Конечно, мама преувеличивала, какую же именно роль папа играл тогда в Иркутске, не знаю. Но слова ее запомнила, чтобы, в свою очередь, замолчать. Эту науку мы проходили рано и прочно. Постепенно я узнавала и накапливала некоторые другие, более определенные, сведения об отце, но за полную их достоверность ручаться не могу, потому что проверить их негде и не у кого.
— А почему ты из Астрахани уехал в Сибирь? — спросила я отца в последний наш разговор осенью 1961 года. Он снова лежал в постели, на этот раз слег безнадежно и окончательно. Но и тогда ответ его был короток и уклончив:
— Да в Сибири можно было больше заработать.
В самой привычности и короткости этого ответа чудилась мне неполная правда. Я спрашивала его тогда, чтобы не молчать, чтоб отвлечь нас обоих от главного, от того, что происходило в стенах четырнадцатиметровой обители страданий, что неотвратимо приближалось к этому куцему диванчику с полочкой и зеркальцем на его спинке, на котором он уже много дней лежал, но еще не теряя сознания, — сознание он потеряет через четыре дня.
Теперь-то я знаю: в 1904 году в Астрахани отец стал членом РСДРП. В конце 1905 года, когда революция пошла на убыль, его выслали из Астрахани в Семипалатинск. В чем заключалась его революционная деятельность, как попал он впервые в социал-демократические круги и кружки, что в них делал и чего искал, я не знаю, но думаю, что привел его туда дух времени, а не личные обстоятельства. Поводов для собственного протеста, судя по характеру отца, мне кажется, здесь не было, но была тяга к лучшему, к высшему, к просвещению во всех его видах. А в те времена для человека из народа просвещение и революция были синонимами. И как это часто бывало, тяга к достойной жизни выкинула его из обжитой к этому времени Владимирской слободы в просторы Сибири. А его ведь сватали хозяева в Астрахани за богатую вдову!
Волгу отец считал своей второй родиной, любил ее нежно. До последних лет поездку по Волге на пароходе считал высшей радостью. Очень грустил, что никто из нас, его детей, не проделал этого заветного путешествия, не приобщился к русской Мекке.