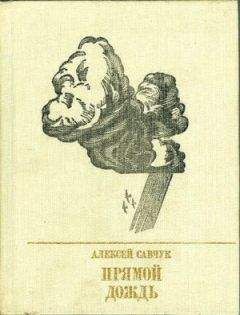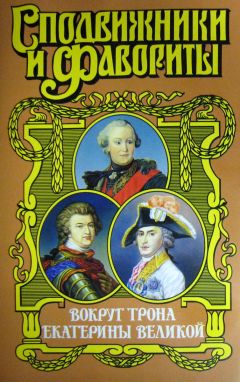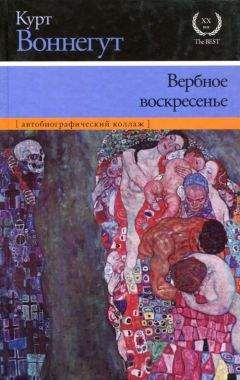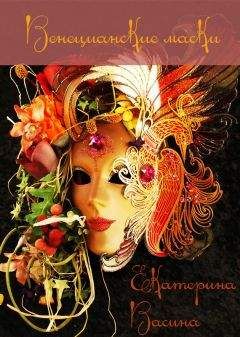Иван Макарович торопится на работу. Идет вместе со Степаном, молчит — нечего языком трепать на таком морозе, да еще в последний день недели. Любит субботу. Суббота всегда предвещает скорый отдых. Ведь за неделю так наломаешься, что все тело ноет. А нынче к тому же совсем особенный день — сорок лет назад в глухом полтавском селе появился на свет он, Иван Непийвода. Ему и невдомек, что в свои годы он выглядит почти стариком.
На дворе еще темно. Лишь белеет снег да мигают в окнах хибар каганцы. Внизу, над скованным льдами Днепром, пламенем дышит завод. Давненько Непийвода здесь: молодым парнем приехал на земляные работы, еще только начинали закладывать цехи. Помнит, как строили доменный цех…
Тяжкий был труд: редко кто выдерживал! По шестнадцать часов в сутки тянули лямку. «По шестнадцать часов, — думал Непийвода, — а теперь из-за двенадцати скандалят. Умники какие! Попробовали бы по шестнадцать! Когда болтают о каторжной работе, совсем не знают, что такое настоящая каторга. Летом крутишься высунув язык, как пес, потому что не хватает воздуха и негде напиться, а зимой коченеешь от студеного ветра… Вот так-то было!»
Возле Брянской площади, у базара, Ивана Макаровича и Степана догнал Григорий Петровский. Несмотря на раннюю пору, здесь уже собрались торговки: может, кто и купит себе чего-нибудь из еды. Тут же стучал по мерзлой земле костылями Попудренко. Совсем недавно он вместе с другими шел утром на завод, а сейчас нищий, калека.
— Несчастный человек, — посочувствовал Григорий.
Непийвода не выносил подобных речей, и хоть и жаль было ему беднягу — мерзнет человек ради каких-то копеек, — но он сердито заворчал:
— Разинут рот, ворон ловят, вместо того чтобы работать. Вот и этот поплатился. Дело такое — не зевай, коли тебе хозяин деньги платит… Береженого бог бережет… — Потом спокойнее добавил: — Может, Попудренко и не виноват…
— Я думаю… — начал было Петровский, но Непийвода перебил его:
— Знаю, что ты скажешь. Уже не раз слышал. Ты лучше не забудь прийти к нам сегодня вечером.
— А что у вас за праздник?
— Придешь — увидишь…
Как назло, день этот для Ивана Макаровича тянулся необыкновенно долго. В цехе гулял холодный ветер, а у доменной ночи было нестерпимо жарко, едкий пар разъедал глаза. На литейное поле толстым слоем насыпали песок с необходимыми примесями, специальными шаблонами разметили борозды для расплавленного чугуна. Топали сапогами на деревянной подошве литейщики, сгибались, вдавливая в песок модели, орудовали трамбовкой. Все делали скоро, некогда голову поднять, воды напиться…
Катали подвозили к ненасытному чреву печи красную руду, известняк, кокс. Насыпали в вагонетки, которые лифт тут же поднимал наверх, к колошникам, верховые быстро опорожняли их. Одна за другой, как назойливые тараканы, ползли и ползли вагонетки. Внизу двигались люди. Заканчивали подготовку площадки для литья. Сейчас горновые возьмут длинные ломы и, раскачиваясь, начнут бить в летку. Тогда хлынет огненная река металла и потечет по литникам на литейный двор. Для литейщиков наступит короткая передышка. Люди, словно загнанные лошади, будут жадно пить воду: незаметно, кружка за кружкой, по ведру в день выпивают, а потом соленым потом исходят. Тело в заскорузлой одежде, как в панцире. Не успели оглянуться, уже кричит десятник:
— Где Непийвода?
— Воду пьет.
Непийвода вытер усы влажной брезентовой рукавицей и заторопился на литейный двор. Чугун уже начал остывать, покрылся сизоватой пленкой.
Гудит домна. Без конца гудит и шипит адское, проклятое богом железное варево, подгоняет людей, не дает дух перевести.
И нет этому ни конца ни краю. В начале смены, когда силы еще не растрачены и азарт охватывает, Непийвода легко, как игрушечные мячи, перебрасывал двухпудовые болванки. А под конец работы его движения стали механическими, он собрал остаток сил и подумал сам о себе, что выдохся, как лошадь, которая поднимает перед заходом солнца последний пласт земли.
Тяжелые молоты разбивали металлическое кружево, чтобы отделить болванку от болванки. Приближался самый трудный, самый ответственный момент: горячее литье длинными клещами надо бы сбросить на железную платформу.
Стоят в ряд литейщики, передают друг другу болванки. Непийвода — возле платформы. Один зацепит клещами, качнется — и болванка уже падает у ног другого, тот нагибается, поднимает, передает дальше… Непийвода подхватывает и бросает на платформу. Половина поля уже очищена. Еще нагрузить платформу, разгрести песок — и конец смены.
Ноги и руки будто свинцом налиты, в голове гудит. Движения точны, строго рассчитаны, однообразны — нельзя ни спешить, ни медлить. Зрение, нервы, слух, мускулы — все напряжено. С металлом шутки плохи.
Слава богу, скоро конец. Кажется, Непийвода еще никогда так не уставал и не выбивался из сил. Однообразные покачивания ближайшего соседа, мелькание тяжелых болванок… Ни разу они не мелькали так быстро, ни разу с таким грохотом не бухались у его ног, никогда пот так не заливал лицо.
Переступил с ноги на ногу. Все закружилось перед глазами. Что-то закричал десятник. Не успел опомниться, как тяжелая многопудовая болванка ударила по ногам, и он повалился навзничь. К нему бросились люди…
8
Так Иван Макарович Непийвода оказался в больнице. Лежал с обескровленным, серым лицом, под серым одеялом забинтованные обрубки ног. Грустно смотрел на детей, стоящих у кровати. Трехлетняя Харитя жмется к матери, исподлобья бросая испуганные взгляды на отца.
Никто не знает, что делать.
Молчание становится невыносимым, и отец, с трудом разлепив запекшиеся губы, говорит:
— Катерина, пойди в контору. Мне там деньги должны дать.
— Ладно, — кивает она. Жалея мужа, не говорит, что уже была в конторе, что инженер бросил: «Сам виноват».
— Почему никто не приходит? — спрашивает Иван Макарович.
— На работе все.
— А я и забыл.
И снова разговор не клеится.
Непийвода думает о том, с чего он начал и до чего докатился: остался без ног, и дочери разбредутся по свету нищими. Всегда торопился на завод, надеясь когда-нибудь вырваться из города. Был чернорабочим — его силе все завидовали, и десятник хвалил. Выбился в люди, стал, литейщиком, а перед тем сколько «магарычей» поставил… В стороне от всего был: тихий, покорный, молился богу да почитал царя-батюшку… И теперь только на царя надежда. Если б его императорскому величеству было известно, что в далеком Екатеринославе на Брянском заводе есть литейщик Непийвода, с которым приключилась беда, разве могущественный самодержец бросил бы Ивана на произвол судьбы? Ведь не по своей вине он стал калекой. А что, если написать царю письмо?