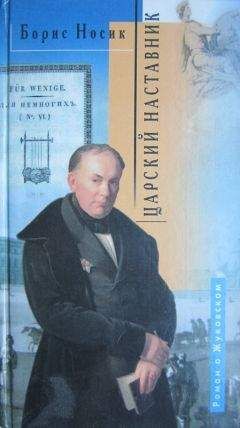Но что Васеньке до этих сплетен? Что ему до профессорских слабостей, коли учит профессор всему благородному, коли вокруг столько благородства, и добродетели, и любви и его, Васю, все так искренне любят? Различать чужое ханжество он не научился и позднее (и никогда не научится — ибо вообще мало меняется внутренне), а если и правда не всегда добродетелен и благороден профессор (что Васеньке незаметно), так это его, профессора, беда: Васенька ему уж и за то благодарен, что о добродетели и высоких мечтах неизменно напоминает, что литературе благотворит, что о родном слове так яро печется… Благодарность эту Жуковский пронес через всю жизнь и позднее не раз хлопотал за Антонского, пытался добыть бывшему наставнику им вожделеемый пост в Царскосельском лицее…
Васеньки московская удача не ограничилась ни любовью к нему всего пансиона, ни первыми стихотворческими успехами, ни начавшейся наконец учебой: обрел он в Москве новый дом, близкое сердцу семейство, где принят был как родной. Тургеневы встретили Васеньку, рекомендованного тетушкой Варварой, с распростертыми объятьями, сразу поняв, что это родственная душа. Семейство было замечательное и, конечно, масонское (не одни знатные Тургеневы были тогда масонами, но и Бутурлины, и Орловы, и Голицыны, и Трубецкие, и Татищевы, и Гагарины, и Муравьевы, и Волконские, и Долгорукие, и Апраксины, и Лобановы-Ростовские, и Разумовские, и Толстые, и Строгановы, и Чернышевы, и Нарышкины, и Шуваловы — целыми семьями). Директор университета Иван Петрович Тургенев был друг Новикова и бывший член «Дружеского общества», масон из масонов. В 1792 году в связи с гонениями против «мартинистов» был он выслан в свое симбирское имение, но вскоре возвращен был из ссылки императором Павлом и назначен директором Московского университета. Не только был он приверженец «строительства» храма собственной души, но и прекрасного храма других душ строительства, в первую очередь — четырех своих сыновей: Андрея, Александра (Васиного соученика по Благородному пансиону), Николая и Сергея. Был он душою молодой компании, веселым товарищем молодежи, всем был «милейший собрат» и, на Васино счастье, «друзей не рознил с сыновьями». Любимым же другом и идеалом Васеньки сразу сделался старший, Андрей, без пяти минут студент, главный Васин нравственный наставник. С другими братьями тоже был Васенька в самых близких дружеских отношениях.
Все было ему интересно в этом доме, который и хотел и умел быть привлекательным для молодежи. И люди тут бывали славные — всеобщий кумир Николай Михайлович Карамзин, поэт Дмитриев, а также почтеннейший масон, сенатор Иван Лопухин. Последний пользовался среди всех, кто хотел «созидать свой внутренний храм», особым почтением.
Конечно, юного Васеньку волновало близкое общение с этими людьми, которые посреди толпы, не знающей, куда она идет и зачем в суете расточает усилия всей жизни, знали свой путь и следовали высокому идеалу добродетели и филантропии. Волновали мальчика и ночные, в дортуарах, разговоры про то, что, пожимая руку собеседнику, наставник их Антонский подает тайный знак, сообщая, что он «брат», что он свой, «посвященный».
— Но отчего же… — спросил однажды Васенька друга своего Андрея, — отчего же собрание самых благородных людей России должно быть тайным? Чего им бояться? Вот ведь и люди близкие к Государю ныне того же благородного образа мыслей, что и мы?
Отвечая на этот прямой вопрос, даже милый Андрей, которого открытость и пылкая искренность вошли в пословицу, нахмурился и напустил на себя таинственность, потому что тайное обсуждать не полагалось, это Васенька уже знал (из-за этого тяжкого для него условия тайности, может, и не стал членом Братства, объединявшего стольких им почитаемых и любимых людей вокруг мыслей, им до старости разделяемых). Из объяснений Андрея все же понятно ему стало, что высокие нравственные качества и добродетели могут в себе развить только «посвященные», которые к высшей мудрости веков уже приобщились, а вдохновение их как раз и поддерживается среди прочего хранением их общей тайны, изучением символов… Самая эта тайна дает им чувство «посвященности», которое стороннему, «профану» не передашь, пока он не пройдет путь познания, не будет посвящен в масонские степени. А про само-то общество, хоть и тайное, всем, сверху донизу, известно — оттого и пережило оно гонения…
Хотя даже в самые юные, романтические годы не было у Васеньки Жуковского соблазна примкнуть к загадочному тайному обществу, весь набор масонских идей и правил (покаяние, самопознание, устройство внутреннего храма, созерцание…) пронес он через всю свою долгую жизнь. Были в этой благотворной среде, куда ввел его жребий, и другие неизменно обсуждаемые и культивируемые идеи и чувствования, так сладко воспетые всерусским кумиром Карамзиным, а до него и многими сентиментальными авторами Европы, — и дружба, и благородная меланхолия, и любовь, и протчие. Попав однажды в знаменитую усадьбу почтенного сенатора Лопухина, в подмосковное Савинское, юный Жуковский растроган был до слез, потому что попал в свой, близкий его сердцу мир литературных образов и воспоминаний. Про этот визит он вспоминал долго и о нем с жаром рассказывал, так что самый рассказ превращался в сентиментальную повесть начинающего карамзиниста:
«Я видел в саду И. В. Лопухина, находящемся верстах в 30 от Москвы, в подмосковном его селе Савинском, скромную урну, посвященную памяти Фенелона. На ровном месте, где было топкое болото, явились тенистые рощи, пересекаемые прекрасными дорожками и орошенныя чистою, прозрачною, как кристалл, водою. Расположение сада прекрасно: лучшее в нем место есть Юнгов остров. Вы видите большое пространство воды. Берег осенен рощею, в которой мелькает Руссова хижина! На самой середине озера Юнгов остров, с пустынническою хижиной и несколькими памятниками, между которыми заметите мраморную урну, посвященную Фенелону. На одной стороне урны изображена госпожа Гюйон, друг Фенелона, а на другой Ж. Ж. Руссо, стоящий в размышлении перед бюстом камбрейского архиепископа… Остров осенен разными деревьями: елями, осинами, березами и другими; его положение чрезвычайно живописно; всего приятнее быть на нем во время ночи, когда сияет полная луна, воды спокойны и рощи, окружающия берег, отражаются в них, как в чистом зеркале! Это место невольно склоняет вас к какому-то унылому, приятному размышлению».
Унылость тут, как видите, синоним приятности, ибо в священной меланхолии положено было находить некую приятность философствования: ну да, такова жизнь, она грустна и прекрасна, и человек чувствительный не упустит повода для утонченной «унылости». Впрочем, жизнь ведь и вправду была жестокой и давала не слишком уныло-приятные поводы для меланхолии. Смерть папеньки (пережившего, кстати, смерть десяти из своих пятнадцати детей) настигла Васю еще маленьким, но вот в самый год поступления Васеньки в пансион умерла любящая, нежная и нежно любимая его единокровная сестра-«тетенька», его крестная мать Варвара Афанасьевна Юшкова-Бунина, и четырнадцатилетний пансионер Васенька Жуковский написал на ее смерть прозаический текст «Мысли при гробнице», вскоре уже и напечатанный. В нем горе юного автора облечено в форму, продиктованную временем, окружением, усердным чтением и усвоенным уже (надолго, если не до конца дней) мистическим мироощущением. «Живо почувствовал я, — пишет Васенька, потерявший милую «тетеньку»-сестрицу, — ничтожность всего подлунного; вселенная представилась мне гробом… Смерть, лютая смерть, когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей, — когда, когда перестанешь ты посекать все живущее, как злаки дубравные?..» Однако добрый христианин Васенька знает, что не пристало предаваться отчаянью, ибо такова участь живущего, к тому же есть иной мир, куда уходим мы в день, назначенный Отцом Небесным: