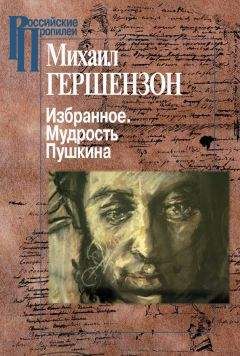– эти строки несомненно восходят к стихам Боброва:
О, миловидная Зарена!
Все звезды в севере блестящи,
Все дщери севера прекрасны;
Но ты одна средь их луна.
«Тавриду» Пушкин читал в 1821 году, – ту онегинскую строфу писал в 1828-м; как же зорко он читал даже такую дрянь, и какая память на чужие образы и стихи!
Как известно, в своих примечаниях к «Онегину» Пушкин сам вскрыл ряд поэтических припоминаний и цитат, заключенных в его романе. Если присмотреться к этим местам, они в своей совокупности обнаруживают одну особенность Пушкина, какой, если не ошибаюсь, мы не встречаем ни у какого другого поэта равной с ним силы; именно, оказывается, что его память, хранившая в себе громадное количество чужих стихов, сплошь и рядом в моменты творчества выкладывала перед ним чужую, готовую поэтическую формулу того самого описания, которое ему по ходу рассказа предстояло создать. Описывает ли он летнюю ночь на Неве – он вспоминает соответствующее место в идиллии Гнедича; хочет ли изобразить Онегина стоящим на набережной – память автоматически подает ему строфу Муравьева{134} о поэте, —
Что́ проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит;
приступает ли к изображению зимы – он вспоминает «Первый снег» Вяземского и описание зимы в «Эде» Баратынского; нужно ли ему описать наступление утра знаменательного дня, память услужливо напоминает стихи Ломоносова: «Заря багряною рукою» и т. д.; только написал стих: «Теперь у нас дороги плохи», – и вспомнил стихи Вяземского: «Дороги наши – сад для глаз»… Гёте и Байрон, Тютчев и Фет совершенно свободны от этой литературной обремененности. В Пушкине она была чрезвычайно велика, и характерно, что он нисколько не боялся ее, напротив – свободно и, по-видимому, охотно повиновался своей столь расторопной памяти. Припомнилась строфа Муравьева – и Пушкин так легко переплавляет ее в свои стихи:
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.
припомнились кстати стихи Ломоносова – Пушкин пускает их в дело:
Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
Эти заимствования указаны самим Пушкиным в его примечаниях к «Онегину»; но вот ряд заимствований в том же романе, Пушкиным не отмеченных, то есть утаенных, следовательно, по принятому словоупотреблению, – плагиатов. И всюду та же картина: дойдя до некоторого описания, Пушкин тотчас непроизвольно вспоминает тожественную или сходную ситуацию в чужом поэтическом произведении и стихи, которыми тот поэт описал данную ситуацию; так представший его воображению образ: море – волны – любимая девушка – ее ножки – тотчас, как бы по условному рефлексу, вызывает в его памяти соответственную картину и стихи в «Душеньке» Богдановича{135}:
Гонясь за нею, волны там
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смиренно пасть к ее ногам, —
и Пушкин без стеснения перефразирует эти стихи (Онегин. I. 33):
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам.
Или хочет он изобразить веселую гурьбу ребят на воде – он вспоминает из той же «Душеньки» сходный образ:
Тритонов водяной народ
Выходит к ней из бездны вод, —
и пишет пародируя (Онегин. IV 42):
Мальчишек радостный народ…
и дальше:
Задумав плыть по лону вод…
или, описывая Москву, вспоминает стихи из описания Москвы у Батюшкова (К Д. В. Дашкову, 1813 г.)[64]:
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы —
и повторяет последний стих (Онегин. VII 38):
Прощай, свидетель нашей славы,
Петровский замок!
Прежние исследователи, в особенности В. П. Гаевский, Л. Н. Майков, П. О. Морозов и Б. Б. Никольский, обнаружили у Пушкина, даже в поздние периоды его творчества, немало поэтических реминисценций, преимущественно, правда, из французских поэтов. Он несравненно обильнее черпал у своих русских предшественников и даже современников, и мы еще далеки от правильного представления о размерах этой его практики – о количестве и бесцеремонности его заимствований. Я приведу ряд русских заимствований Пушкина, до сих пор, кажется, не обнаруженных.
Он начал: «Богат и славен Кочубей», – хочет сказать: «богат по-украински», память подает ему украинские стихи Рылеева («Петр Великий в Острогожске», напеч. в 1823 г.):
Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо ходят табуны. —
он берет строфу и лепит из нее свои стихи:
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Ему понадобилось напомнить о том, как Олег прибил свой щит к воротам Константинополя, – он берет четверостишие Рылеева («Олег вещий», напеч. в 1822 г.):
Но в трепет гордой Византии
И в память всем векам
Прибил свой щит с гербом России
К Царьградским воротам —
и воспроизводит их стих за стихом (Олегов щит, 1829 г.):
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.
Из его писем мы знаем, что он в Кишиневе читал «Сын Отечества»{136}; и вот, в 1821 году{137} он прочитал в этом журнале стихотворение В. Филимонова «К Леоконое», перевод оды Горация; восемь лет спустя он вспомнит отсюда три стиха:
И разъяренные валы,
Кипящи пеною седою
Дробит о грозные скалы, —
и начнет свой (Обвал. 1822) перифразом этих стихов:
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы.
Желая выразить свое удивление пред идиллиями Дельвига, он вспомнил стихи старого В. Капниста, хвалу Батюшкову за то, что он
в хладном севере на снеге
Растил Сор(р)ентские цветы.
(в Послании к Батюшкову), и в своей эпиграмме повторил этот образ (Загадка):
Кто на снегах возрастил
Феокритовы нежные розы?
Стих Батюшкова (Элегия, из Тибулла, 1814):
На утлом корабле скитаться здесь и там
вспомнился ему в 1836 году, и он воспользовался им (Из Пиндемонте):
По прихоти своей скитаться здесь и там.
В «Полководце», по поводу Барклая де Толли, он неожиданно вспоминал стих Княжнина из его «Послания от Рифмоскрыпова дяди»:
Ты помнишь ли врача, достойна слез и смеха?..
– и повторил его по-своему: