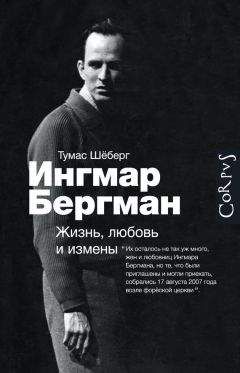Она перегнулась через стол, и нижняя половина лица попала в круг света.
И тогда я увидел то, чего не видел раньше! У нее был некрасивый рот — бледная полоска в окружении поперечных морщин. Поразительно и возмутительно. Такая красота — а в центре этот режущий аккорд. Этот рот (и то, что он рассказывал) был не подвластен волшебству ни одного специалиста по пластическим операциям, ни одного гримера. Она мгновенно прочитала мои мысли и, поскучнев, замолчала. Через две-три минуты мы распрощались.
Я пристально вглядывался в облик Гарбо в последнем ее фильме. Ей тридцать шесть лет, лицо красиво, но напряжено, губам не хватает мягкости, взгляд по большей части рассеянный и грустный, несмотря на комедийность ситуаций. Может быть, зрители почувствовали нечто, о чем ей уже поведало зеркало[ 75 ].
Летом 1983 года я поставил «Дон Жуана» Мольера для фестиваля в Зальцбурге. Замысел возник во время медового месяца с руководителем Резиденцтеатер австрийцем Куртом Майзелем, которому предназначалась роль Сганареля. Подготовка заняла не меньше трех лет. Позднее Майзель вышвырнул меня из театра, но контракт с Зальцбургом оставался в силе. Я подобрал другого Сганареля — Хильмара Тате, его выжили из ГДР. Да и на остальные роли мне предоставили блестящих актеров во главе с Михаэлем Дегеном, игравшим постаревшего Дона Жуана.
Репетиции начались в Мюнхене, окончательную доводку спектакля мы сделали за четырнадцать дней в неприглядном и тесном Ховтеатер в Зальцбурге, обладавшем только одним преимуществом: прекрасно работавшими кондиционерами. А лето стояло жаркое, рекордно жаркое.
Я не верю в национальный характер, но австрийцы, по всей видимости, народ особенный, во всяком случае, те из них, кто взращен на фестивалях в городе Зальцбурге. Безграничная любезность в сочетании с бросающимися в глаза неэффективностью, заорганизованностью, лживостью, бюрократизмом и скользкой ленью.
Очень скоро администрация пришла к выводу, что моя постановка «Дона Жуана» для них — точно слон в посудной лавке. Улыбки стали холодней, но заметной прохлады в разгулявшейся жаре не приносили.
Меня пригласили посетить Герберта фон Караяна, готовившего во второй раз премьеру «Кавалера роз» в Большом фестивальном дворце, своем самом величественном творении.
Присланная Караяном машина доставила меня в его личный офис в глубине огромного здания. Он немножко опоздал, маленький стройный человек с непомерно большой головой. Полгода назад ему сделали тяжелую операцию на позвоночнике, и поэтому он волочил одну ногу, опираясь на своего помощника. Мы расположились в удобной дальней комнате, выдержанной в изысканно-серых тонах, симпатично нейтральной, прохладной и элегантной. Ассистенты, секретари и помощники оставили нас вдвоем. Через полчаса начиналась репетиция «Кавалера роз» с оркестром и солистами.
Маэстро сразу взял быка за рога. Он хотел бы сделать телевизионный фильм-оперу по «Турандот» и просил меня быть режиссером — на меня выжидающе смотрели светлые, холодные глаза. (Вообще-то «Турандот» представляется мне гадкой, громоздкой, извращенной мешаниной, этаким дитятей своего времени.) Но тут, загипнотизированный прозрачным взглядом, я услышал собственный голос, говоривший, что это — большая честь, что я всегда восхищался «Турандот», что музыка загадочна, но проникновенна и что для меня не может существовать более сильного стимула, чем возможность работать с Гербертом фон Караяном.
Производство фильма запланировали на весну 1989 года. Караян назвал имена «звезд» мировой оперы, предложил сценографа и студию. В основу фильма будет положена граммофонная запись, которую он намеревался сделать осенью 1987 года.
Все вдруг потеряло реальные очертания, единственной реальностью стала «Турандот». Я знал, что сидящему передо мной человеку семьдесят пять лет, мне самому на десять лет меньше. Когда дирижеру исполнится восемьдесят один, а режиссеру — семьдесят один, им предстоит вдохнуть жизнь в эту мумифицированную диковину. Смехотворности задуманного я не видел. Я был безнадежно зачарован.
Обсудив предварительные наметки, Маэстро заговорил о Штраусе и «Кавалере роз». Первый раз он дирижировал оперой в двадцатилетнем возрасте и, прожив с ней всю жизнь, постоянно находил в ней новизну и вызов. Внезапно он переменил тему: «Я видел вашу постановку «Игры снов». Вы режиссируете так, словно вы — музыкант, вы обладаете чувством ритма, музыкальностью, точным выбором тональности. Все это есть и в «Волшебной флейте». Местами она очаровательна, но мне не понравилась. В конце вы переставили несколько сцен. С Моцартом так обращаться нельзя, у него все — органично».
В дверь уже заглядывал помощник, напоминая, что подошло время репетиции. Караян отмахнулся — пусть подождут. В конце концов он с трудом встал и схватился за палку. Возникший из ниоткуда ассистент повел нас по выложенному камнем коридору в Фестивальный зал — чудовищное помещение, вмещающее тысячи зрителей. Медленно продвигаясь вперед, мы превращались в процессию, в королевскую процессию из ассистентов, помощников, оперных певцов обоего пола, лебезящих критиков, кланяющихся журналистов и подавленного вида дочери. На сцене в полной готовности выстроились солисты на фоне ужасающих декораций 50-х годов («я велел до мелочей скопировать первоначальные декорации, сегодняшние сценографы — либо сумасшедшие, либо идиоты, либо и то и другое»). В оркестровой яме ожидали музыканты Венской филармонии. В зале сидели сотни функционеров и неопределенных граждан этой империи. Когда появилась худенькая, волочащая ногу фигурка, все встали и продолжали стоять, пока Маэстро не перенесли по мостику через оркестровую яму и не водрузили на место.
Немедленно началась работа. И нас захлестнуло волной опустошающей, омерзительной красоты.
Мое самовольное изгнание началось в 1976 году в Париже. Изрядно покружив по миру, я случайно оказался в Мюнхене. И так же случайно попал в Резиденцтеатер, баварский Драматен: три сцены, приблизительно равная по величине труппа, одинаковые государственные дотации, то же число выпускаемых спектаклей. Там я сделал одиннадцать постановок, приобрел значительный опыт и натворил множество глупостей.
Само здание, вклинившееся между Оперой и Резиденцией [баварских герцогов] и обращенное фасадом на площадь Макс-Йозефплатц, производит впечатление того, что баварцы называют «Schnaps-idee»[ 76 ], что соответствует действительности. Сварганенное вскоре после войны, оно — в отличие от роскошной Оперы — представляет собой самое уродливое сооружение в мире, как снаружи, так и изнутри.