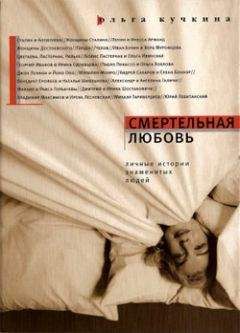Другие песни прозвучали в Новосибирске, когда научная публика, молодежь заполнили клуб «Интеграл» до отказа. Он пел там «Промолчи – попадешь в палачи» и еще многое. А потом весь зал молча встал и – разразился овацией. Ученые Сибирского отделения Академии Наук СССР написали ему: «Мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим мужеством».
За другие песни последовал вал разгромных статей в «Правде», центральном органе партии, не оставляя певцу надежд на продолжение казенного успеха.
За другие песни отлучили от кино и литературы, выгнав сначала из Союза писателей, затем из Союза кинематографистов. Из писателей – перед самым Новым годом. Торопились.
Галич обратился к коллегам с «Открытым письмом», которое нигде не могло быть напечатано: «Меня исключили втихомолку, исподтишка… Меня исключили за мои песни – которые я не скрывал, которые пел открыто… И все-таки я думаю, что человек, даже один, кое-что может, пока он жив. Хотя бы продолжать делать свое дело. Я жив».
Прежние завистники злорадствовали: вот и деньги текли рекой, и договоры, и гонорары, жена первый сорт, плюс очередь из женщин – еще и диссидентской славы захотелось?
Он мог не обращать на этих внимания.
Гораздо больше было тех, кто с восторгом принимал новый облик барда, исполнявшего свои стихи не от третьего – от первого лица. От лица лагерника и блатаря, инвалида и канцеляриста, человека толпы, нищего материей и духом.
Хуже было, когда восторг не разделяли свои, близкие. Или бывшие близкие.
Александр Гладков, автор другой культовой комедии «Давным-давно», участник той же арбузовской студии, записывал в дневнике – теперь эти дневники опубликованы: «оппозиционная карьера» Саши Галича – это, конечно, парадоксальное недоразумение. Он был увлечен на этот путь своим тщеславием и вечериночными успехами периода «позднего реабилитанса».
И еще: «Вот что такое волна истории. Она вынесла Сашу Галича, маленького, слабого, неумного, тщеславного человека, в большую историю… Его подделки под лагерный фольклор – кощунственны».
Гладков сам в конце 1940-х – начале 1950-х отбывал лагерный срок. Так что его «лагерная ревность» объяснима. Но та же давняя неприязнь перевесила у Арбузова. На писательском секретариате, где исключали Галича, Арбузов отказался голосовать за исключение, а слово осуждения произнес. У Арбузова был свой, личный счет к Галичу. Ему тоже казалось кощунственным «присвоение чужой биографии»: примерка на себя, благополучного, чужого неблагополучия.
И все-таки, умирая, уже с провалами сознания, Арбузов сказал автору этих строк: «А что если я попрошу, чтобы Галичу разрешили вернуться и пересмотрели его дело?».
Он не помнил, что к тому времени Галича несколько лет как не было в живых.
Именно Арбузов забирал когда-то из роддома, по просьбе друга, новорожденную Алену с мамой.
Живой Галич, когда его упрекали, что он, не сидев, сочинил, скажем, популярные «Облака», спокойно отвечал: «Пушкин ведь тоже не жил в Средние века, а написал “Скупого рыцаря”».
* * *
Природа награждает человека даром, не спрашивая его. И дар диктует, проламываясь и проламывая иной выбор, нежели тот, что был на виду. Иную судьбу.
Галичу исполнилось 45, когда судьба переломилась.
К счастью, были люди, кто целиком принял его таким, каков он есть, высоко оценив талант и свершения.
Композитор Николай Каретников говорил о нем с нежностью: «У него еще был совершенно замечательный характер. Он был человек легкий, веселый, безобразник…»
Литературовед Бенедикт Сарнов поражался, как «этот человек – действительно пижон, и бонвиван, и позер – был беспощаден к себе».
Дружбой с Галичем гордился академик Сахаров, о чем написал в «Воспоминаниях»: «В декабре 1971 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси – восстановление старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой “Город на заре”… В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то “дополнительные”, скрытые от постороннего взгляда черты его личности – он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная элегантность».
Огромное влияние на Галича оказал Варлам Шаламов. Он приводил к Галичу людей с металлическими зубами – все «сидельцы». После чуть ли не каждой песни один задавал все тот же вопрос: а где вы сидели? Сперва Галич смущенно отвечал, что не сидел. Гость продолжал свое. Тогда Галич сказал: сидел, в огромном лагере под названием «Москва». И тот отстал.
Первую свою книжку стихов «Шелест листьев» Шаламов подарил другу с надписью: «Александру Галичу, создателю энциклопедии советской жизни».
* * *
Он пил и пел. Ему наливали в благодарность за высказанное, пропетое. Нюша смотрела на него с восхищением и подставляла свою рюмку, чтобы ему меньше досталось. Так спасала его, губя себя. У него было больное сердце, он перенес несколько инфарктов. Они ссорились, иногда прилюдно. За всем стояла – любовь.
В Питере, где он выступал с домашними концертами, у него случился сердечный приступ. Вызвали скорую. Сделали укол камфары. Занесли инфекцию: золотистый стафилоккок. Началась гангрена. Грозила ампутация. Он заявил, что ни за что не даст отнять руку: «Где вы видели безрукого гитариста?» Она закричала, что если он умрет, она покончит с собой.
Он не умер. Она или он отодвинули смерть.
Она, боясь за него, преодолевала свой страх.
Написав «На смерть Пастернака», он пришел в ресторан Центрального дома литераторов с гитарой и объявил, что сейчас состоится фактически премьера песни – накануне он спел ее только Корнею Ивановичу Чуковскому в Переделкине.
Дом литераторов – место, где за каждой колонной могло стоять по стукачу. Она сказала: «Откройте все двери, пусть слышат!»
Из дневника Лидии Корнеевны Чуковской:
«13 марта 1967. Сегодня днем был часа два Александр Аркадьевич. Слабый, сильный и, по-видимому, гениальный».
«19 ноября 1968. Был у меня как-то днем Галич… Он читал мне стихи – некоторые замечательны. Генеалогия его замечательна – никакой генеалогии. Не от Олейникова, не от Зощенки, не от Козьмы. Сам по себе – и силен, и смел, и остер, и задушевен, и виртуозен… Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь – и он сам! – избалованны, денежного запаса нет, он к тому же болен. Да еще вечное питье. Как он выйдет из беды – непонятно».
А это из дневника ее отца, Корнея Ивановича Чуковского:
«2 окт. 1967 г . Вчера был у меня Галич – пьяный беспробудно. Обещал придти в 4 часа, пришел в 7 – с гитарой. Читал стихи – стихи гораздо слабее, чем прежние. Как будто пародии на Галича. Разложение, распад личности. Порывался поцеловать у меня руку, рухнул на колени и, вставая, оперся на гитару, которая тут же сломалась».