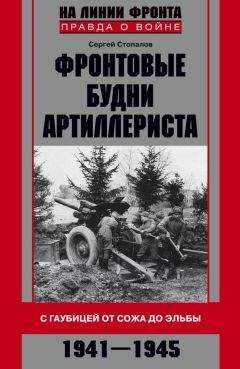– Мы собираемся отсюда уходить? Или мы здесь остаемся до самого конца?
В последующие нескольких дней русские подошли к окраинам города, и в течение дня на территорию завода пытались проникнуть отдельные группы русской пехоты. В сумерках наши друзья из учебной школы вытесняли их обратно, причем так умело, что сами не понесли никаких потерь.
Однажды к нам в убежище пришел молодой лейтенант из другой дивизии, чтобы реквизировать несколько комнат в административном здании и разместить там их штаб. У нас было достаточно свободного места; число раненых уменьшилось, так как чем ближе к нам подходила линия фронта, тем меньше становилась линия обороны, с которой к нам поступали раненые. Но я отказался предоставить ему помещения для штаба, тогда он стал настаивать. Когда я процитировал ему выдержку из Женевской конвенции, согласно которой боевые части не могут располагаться на территории госпиталя, он не знал, как на это реагировать, и разговор становился все горячее. Но напряжение спало после того, как к нам явился лично командир дивизии. Он добрался до нас пешком. Генерал был крайне удивлен, когда узнал, что в таком месте все еще может располагаться полевой госпиталь, и был к нам расположен исключительно хорошо. Для него Женевская конвенция была не пустым звуком. Он сразу же согласился занять виллу бывшего директора завода, хотя к тому времени она была уже сильно повреждена.
Мы пригласили генерала на чай, и, пока он готовился, лицо у Мокасина было таким же невозмутимым, как и у английского дворецкого. Будучи загнанными в угол, Регау, Матиезен и я не хотели упустить возможности притвориться, что для нас нет ничего естественнее, чем попить чайку в тот момент, когда на пороге стоят русские.
Пока мы сидели подобным образом, внезапно раздался двойной удар, из-за которого мы чуть не попадали со стульев, а свечка, закрепленная на стене, упала вниз. Две пушки нашей батареи шестидюймовых орудий разместились как раз за нашим зданием и открыли огонь по противнику. Естественно, генерал не отказал своим хозяевам в их просьбе и приказал батарее занять другую позицию.
На следующий день вместо штаба дивизии виллу директора занял штаб полка, и, когда мы прощались с генералом и другими офицерами, Матиезен заметил с улыбкой:
– Если кто-нибудь из джентльменов вновь окажется в этих краях, мы всегда будем рады пригласить его на чай!
Однако все промолчали. Молча, как на похоронах, они пожали нам на прощание руку.
В тот же вечер мне было приказано явиться к начальнику медицинской службы гарнизона, и мы все очень надеялись, что, наконец, получим приказ собирать вещи. Я сел в последнюю из оставшихся у нас машин, которая пока еще не была повреждена прямым попаданием артиллерийского снаряда, я держался рукой за открытую дверь, чтобы в случае необходимости можно было выскочить из машины и где-нибудь спрятаться. Однако стрельба на время утихла; только на город было сброшено несколько бомб, впрочем, он и так уже лежал в руинах.
У начальника медицинской службы гарнизона собралось около двадцати начальников полевых госпиталей и командиров медицинских частей, которые все еще оставались в Хейлигенбейле.
Наш медицинский начальник оказался крепким, сухощавым, закаленным в боях старым воином. Он руководил эвакуацией раненых во время отступления из Минска, проявив при этом чудеса организаторских способностей.
Мы уселись вокруг длинного стола. Он встал со своего места и коротко сказал:
– Господа, удержать Хейлигенбейль хотя бы на то время, которое требуется для эвакуации госпиталей и прочих медицинских учреждений, нет никакой возможности. Поэтому приказываю вам всем сдаться в плен русским. Поступая подобным образом, мы действуем в соответствии с условиями Женевской конвенции.
Наступила мертвая тишина. Лица одного или двоих из присутствующих сразу же скривились. Большинство же вели себя достойно.
Итак, пришел и наш черед. Без приказа никто не имел права покинуть то, что все еще оставалось от «котла». Даже если все органы власти уже перестали функционировать, полевая жандармерия наверняка до сих пор охраняет причалы в Розенберге. Зима уже прошла, так что по льду также выбраться не было возможности. Все присутствующие быстро разошлись. Я остался, чтобы кое-что выяснить у начальника медицинской службы; так, я хотел знать, есть ли хоть какая-то надежда получить приказ об отступлении, а также что делать с ранеными. Я спросил об этом полковника. Он сказал, что если мы думаем, что сможем на самом деле эвакуировать всех своих раненых, то он примет меня, как только нам это удастся.
Я вернулся на завод. Регау, Матиезен и старший сержант все еще сидели в нашем маленьком убежище, ожидая меня. Мокасин готовил кофе. Я сел и внимательно посмотрел каждому в лицо. Пока я искал сигарету и поджигал спичку, я повторил заявление начальника медицинской службы гарнизона:
– Господа, удержать Хейлигенбейль хотя бы на то время, которое требуется для эвакуации госпиталей и прочих медицинских учреждений, нет никакой возможности. Мы должны остаться в «котле» и сдаться в плен русским.
Еще до того, как я успел договорить эту фразу до конца, Мокасин достал из кармана банкнот в 50 марок, скатал в трубочку, поджег от свечи и начал размахивать им, крича:
– Могу я дать господам прикурить?
Не дрогнув ни единым мускулом, Регау взял лучину и передал ему. Все начали смеяться.
Как и вся западная группировка, мы были вычеркнуты из списков личного состава армии. Занавес упал. Нам надо было приступать к изучению русского языка – единственным среди нас, кто неплохо на нем говорил, был старший сержант роты.
В нашем маленьком убежище мы оказались в точно такой же ситуации, в какой, если верить древней восточной легенде, оказался и некий человек из Ассирии, который упал в колодец. Сверху находился угрожавший ему верблюд в виде приказа, который отрезал от свободы; а снизу находился дракон по имени Политрук, который только и ждал возможности, чтобы проглотить нас. Белая мышь День и черная мышь Ночь грызли корни кустов, за которые мы цеплялись. Но, подобно человеку из древней ассирийской легенды, мы нашли успокоение в розе Сегодняшнего Дня, которая все еще благоухала прямо перед нами. Но каждый из оставшихся в нашем распоряжении часов был на вес золота.
Внезапно Матиезен нарушил гробовую тишину и сказал:
– Я помню всю поэму Шиллера «Колокол» наизусть!
Регау засмеялся. Он неважно себя чувствовал – уже несколько дней у него держалась высокая температура, хотя он никому и не говорил об этом. Мы предполагали, что это был рецидив малярии, которой он переболел на Таманском полуострове. Он сказал: