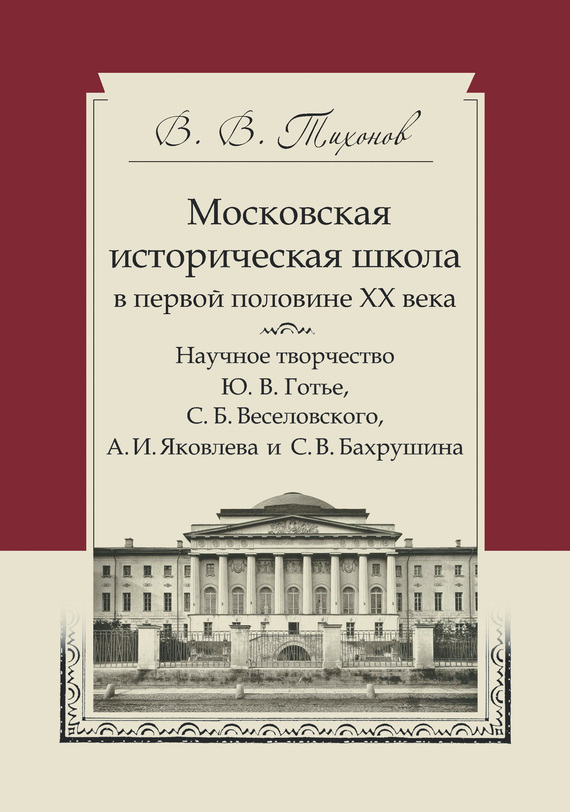и с белой эмиграцией, возвращение которой он рассматривал как величайшее бедствие. Изменения он считал возможным со стороны крестьянства… Как человек очень независимых взглядов, Яковлев ставил буржуазно-либеральную интеллигенцию очень низко и говорил, что нет лучшего юмористического чтения, как чтение „Русских Ведомостей“ за эпоху Временного правительства» [1144]. Несмотря на то что эти показания были получены под давлением, суть взглядов Яковлева, видимо, передана верно. Бахрушину была дана следующая характеристика: «Не монархист, хотя происходит из крупной буржуазии – человек с социалистическими взглядами, приобретенными в дореволюционное время». Далее он утверждал, что в последние годы Бахрушин активно интересуется марксисткой литературой [1145], что совпадало с методологическими поисками историка. На вопросы о существовании военной организации Готье отвечал отрицательно, хотя и не отвергал фактов существования кружков, где обсуждались злободневные политические проблемы. В допросах проскользнуло и признание Готье в том, как он видит свое место в советской системе: «Я полагал, что все люди со специальными знаниями будут нужны и пролетариату; я не делал попыток бежать или эмигрировать и убежденно остался при своих обязанностях преподавателя вуза и библиотекаря, какие я в то время занимал. Я был убежден, что раз я внутренне революцию принял, то всякая борьба против нее исключается для меня навсегда. Я пришел к этому сознанию добровольно и остаюсь ему верным до сих пор; я решил работать далее и в Румянцевском музее, был и одним из первых, кто стоял за немедленное фактическое сотрудничество с Соввластью. Вполне искренне и с полной честностью исполнял свои прямые обязанности, гражданские и научные… я полагал, что я выполняю все, что от меня требуется в новой жизни, и что мои обязанности к Соввласти исчерпываются» [1146]. В общем-то, здесь Готье выразил мнение большинства своих коллег: надо честно работать для спасения культуры и в условиях новой власти. В этом смысле, видимо, не стоит разделять категорического мнения Б.В. Ананьича, А.Н. Цамутали и В.М. Панеяха о нерепрезентативности дела как исторического источника. Безусловно, это дело было сфабриковано, но если проводить сверку показаний с другими источниками, то можно выявить много интересных вещей, в частности общие черты мировоззрения его участников.
Непрекращающиеся допросы давались очень тяжело уже немолодым ученым. Так, с Яковлевым случился сердечный приступ. Его жена, Ольга, просила помощи у Покровского. 16 ноября 1930 г. она писала всесильному главе Наркомпроса: «Здоровье его уже сильно пошатнулось – никогда не страдав прежде сердечными болезнями, он перенес в тюрьме несколько сердечных припадков… он доведен до того состояния, когда человека можно обвинить в чем угодно» [1147]. Она просила Покровского дать ОГПУ разъяснения по поводу личности своего мужа, думая, что это облегчит его положение.
Фигура Покровского неоднократно всплывала в неофициальных беседах подследственных. Известный петербургский историк и культуролог Н.П. Анциферов, также проходивший по «Академическому делу» и оказавшийся в одной камере с Бахрушиным, впоследствии вспоминал о своих беседах с ним. Он писал: «Бахрушин рассказал мне много интересного о нашем деле. В основе его лежали разговоры на квартире у С.Ф. Платонова, в которых высказывались критические суждения, касательно политики партии и правительства, особенно доставалось профессору Покровскому, которого очень не любили и называли „гнусом“». В записках проскальзывает и любопытное наблюдение над политическим мировоззрением Бахрушина. По свидетельству Н.П. Анциферова, историк считал, что старая «интеллигенция обанкротилась» [1148]. Это в очередной раз указывает на то, что в послереволюционное время Бахрушин придерживался так называемой «веховской идеологии».
Все фигуранты дела были приговорены либо к ссылке, либо к лагерям. В этой связи надо остановиться на одном вопросе. В предисловии к изданию «Академического дела» авторы почему-то попытались увидеть, основываясь на предположении, что в нем активно участвовал М.Н. Покровский, продолжение борьбы Московской и Петербургской школ. Данное утверждение не выдерживает критики: представители Московской исторической школы, и это очевидно хотя бы по количественному составу, пострадали не меньше, чем петербуржцы. Желание увидеть (или сделать намек на это) в «деле» борьбу Московской и Петербургской школ вряд ли уместно, поскольку это была борьба новой власти с отказывающимися принять ее учеными.
Чем моложе был подследственный и, следовательно, «занимал» менее высокие посты в мифической организации, тем суровее был приговор. Старшее поколение «отделалось» ссылками. Готье был сослан в Самару, Бахрушин – в Семипалатинск, Яковлев – в Минусинск. О пребывании московских историков в ссылке известно мало. Все они не прерывали научной деятельности, по мере сил и возможностей занимаясь исследованиями. Их быт был предельно спартанским. Так, сохранились рисунки Бахрушина, запечатлевшие дом, где он жил в Семипалатинске. На картинке перед нами предстает небольшое деревянное строение. Внутри дома – весьма скромная обстановка: печка, кровать и два стола [1149].
Готье за время своего пребывания в ссылке получил грамоту ударника «За высокое качество краеведческих исследований по Волгострою» [1150]. Бахрушин решил подвести итог жизненному пути, который он уже прошел к тому времени. Именно в Семипалатинске он пишет свои знаменитые записки, получившие название «Table-talk» (застольная беседа). В них он подчеркивал: «События 1930 г. положили определенную грань в моей жизни, насильственно прервав мою научную работу, и кто знает, возобновится ли она и в каких условиях. Невольно поэтому хотелось бы подвести итоги своей научно-педагогической деятельности» [1151]. Действительно, события 1930 г. стали рубежными в развитии научного творчества Готье, Бахрушина и Яковлева. Вернувшись из ссылки, они уже быстрее шли на сотрудничество с властью, старались адаптироваться. Примечательно, что, не проходивший по делу Веселовский, не познавший страха допросов и тюрьмы, из них всегда будет занимать наиболее независимую позицию.
Подводя итоги, отметим, что 1920-е гг., несмотря на трудности, были временем напряженного научного труда. Работы А.И. Яковлева и С.Б. Веселовского в области археографии, монографические исследования С.В. Бахрушина, С.Б. Веселовского и Ю.В. Готье свидетельствуют о все еще высоком потенциале их как ученых. На 1920-е гг. пришелся расцвет творчества С.В. Бахрушина. Накопленный исследовательский опыт позволил ему создать несколько важных трудов, в том числе монографию, посвященную истории колонизации Сибири. В то же время положение «историков старой школы» было весьма шатким в системе советской исторической науки. «Академическое дело» это наглядно показало, оставив в их душах чувство неизгладимого страха.
Глава 6
1930-е гг.: возвращение в науку
1. Основные тенденции развития советской исторической науки в 1930-е гг
Начало 30-х. гг., и в особенности 1934 г., стали поворотными в развитии советской исторической науки. После десятилетия официального доминирования школы Покровского сложилась устойчивая интерпретация отечественного прошлого с негативных позиций как истории господства классовых врагов пролетариата. Подобная точка зрения могла существовать, пока в идеологии