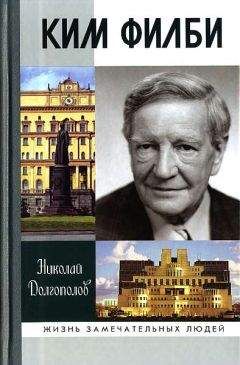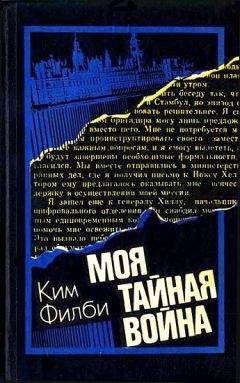Заслуживает внимания еще один аспект деятельности — или скорее бездействия — КГБ, хотя я не предполагаю, что он говорит о неэффективности или неразумности. Русские никогда всерьез не использовали публичную пропагандистскую ценность дел Маклина, Бёрджесса, Филби и Блейка и не пытались создать максимальные политические помехи для Великобритании ни из факта их предательства, ни из информации, которую они передавали. Что верно, то верно: в течение определенного периода 1960-х годов проводилась политика прославления таких важных советских агентов, как Ким Филби, Блейк, Сордж и Лонсдейл, как и всего советского аппарата разведки. Но, судя по последней четверти века, это ничто по сравнению с тем, что русские могли бы сделать — например, с обширными документальными сведениями Блейка. Вдобавок ко всему, в Москве не стали раздувать шумиху из дела Профьюмо — Киллера— Иванова.
Очевидно, у русских были другие политические приоритеты. Даже выпуск собственной книги Кима Филби был на неопределенное время отложен КГБ, пока статьи в Sunday Times и Observer в 1967 году не изменили ситуацию и не появились другие публикации, отмеченные в его предисловии к изданию 1968 года.
Карьера Кима Филби должна была дать нам больше сведений о советской разведывательной службе, чем это следует из множества других источников, потому что он написал книгу, которая, несмотря на ряд упущений, рассказывает о многом. С профессиональной точки зрения одна из особенностей его советской шпионской карьеры — это, по-видимому, связь, установленная на раннем этапе между службой и агентом и постоянно поддерживаемая; судя по всему, они говорили на одном и том же языке. Мой вывод основан не на той «розовой» картинке, на которой Ким рисует и КГБ, и его предшественников как отряд благородных филантропов, которые в общении между собой не позволяют ни единого намека на грубость, а только на фактах, насколько о них можно судить со стороны. Каков кредит доверия каждой из сторон друг к другу, сказать трудно. Эти отношения все-таки нелегко уподобить успешному браку. Я, однако, подозреваю, что в этих отношениях зачастую первую скрипку играл именно Ким. И действительно, было бы глупо пытаться управлять агентом, не прислушиваясь к его порой более компетентному мнению. За исключением службы в Секции IX, в СИС русские вообще, кажется, предоставили ему полную свободу — например, самостоятельно принимать решение о том, занимать или не занимать тот или иной пост. Даже вмешательство из Вашингтона, которое помогло направить Лондон на след Маклина, представлено как его собственная идея, хотя нет сомнений, что он согласовал ее с русскими.
В этой книге я попытался исправить некоторые из наиболее нелепых оценок достижений Кима для русских и ущерба британским интересам, а также подчеркнуть трудности и реалии управления агентом в его положении. Но я вовсе не стремлюсь, как думают некоторые, выставить Кима Филби менее значимой и менее опасной фигурой, чем он был на самом деле. В пантеоне или галерее жуликов разведки его место незыблемо…
Глава 12
Оглядываясь назад
…Самое большое предательство — совершить правильный поступок по неправильной причине.
Т.С. ЭллиотТип предательства по Эллиоту не подходит Киму Филби. Некоторые могли бы утверждать, что он совершал неправильные поступки по правильной причине, что он был дезинформированным идеалистом; другие же — что его поступки были настолько неправильными, что никакая причина не могла бы их оправдать. Но сам Ким расценивал себя в совершенно ином свете: не как офицер СИС, который вероломно передавал секреты своей страны иностранной державе, а как человек, который смело просочился в британскую Секретную службу, потому что это была цель, для достижения которой он был подготовлен лучше всего. И все же он, должно быть, всегда прекрасно знал, что при этом вынужден постоянно предавать доверие, которое оказывали ему страна, его служба, друзья и близкие, и, очевидно, что по крайней мере в отношении последних двух категорий этот конфликт не давал ему покоя. Как же получилось, что этот человек сильных привязанностей, особенно личных, смог одну из них — чужую абстрактную лояльность — поставить выше других? Никто убедительно так и не ответил на этот вопрос, да и я не претендую на то, что способен это сделать. Могу лишь поделиться парочкой личных впечатлений.
Я не верю в теорию о доминирующем влиянии на Кима его отца. Важным аспектом в жизни Кима было не присутствие Сент-Джона Филби, а как раз его отсутствие. Этим двоим редко приходилось бывать под одной крышей. В то время как его отец находился на Ближнем Востоке, воспитанием Кима в Англии занимались бабушка и мать, его преподаватели в подготовительной и частной средней школе, а также он сам. Насколько мне известно, кроме единственной поездки на Ближний Восток в возрасте одиннадцати лет, Ким приехал туда потом лишь после окончания Второй мировой войны, а его отец обычно проводил в Англии не больше времени, чем это было нужно. Несомненно, Сент-Джон помог привить сыну сильный нонконформизм и нежелание принимать общепринятое; но при этом каждый из них избрал для себя совершенно не похожий путь. Даже в школе Ким был во многом сам себе хозяин.
Не верю я и в то, что его карьеру следует рассматривать как пожизненную месть, как средство выражения глубокого негодования против власти или власть имущих, какого бы определения мы ни придерживались. Ким не испытывал особой любви к ценностям своего класса, но, проявляя порой высокомерие, он не был озлоблен. В тот момент, когда он отправился в Кембридж, я могу описать его таким клише: это был мятежник в поисках достойной для себя цели.
Его четыре года в университете были потрачены на поиски. В конечном счете он обрел свою цель в коммунизме. Это было не просто эмоциональное преображение, и оно могло зайти столь глубоко и продлиться так долго. В упрощенном смысле, это был вопрос скорее разума, но не сердца. Я теперь верю, что он был интеллектуально убежден — за длительный период чтения и обсуждений — марксистским анализом истории и классовой борьбы. (Нечто подобное он пишет в своей книге, и этим не стоит пренебрегать.) Что бы впоследствии Ким ни говорил для публичного потребления, он не становился ближе к коммунизму через сочувствие к страданиям бедных и безработных в Великобритании, евреев в Берлине или социалистов в Вене. Не то чтобы ему недоставало сострадания, нет — скорее он всегда предпочитал смотреть на вещи с точки зрения исторического процесса, анализа и политического решения. Это интеллектуальное принятие коммунизма стало поворотным моментом в его жизни.