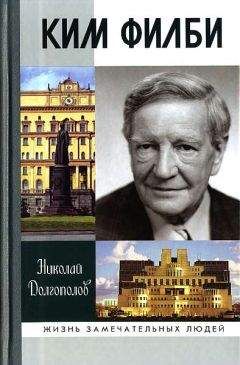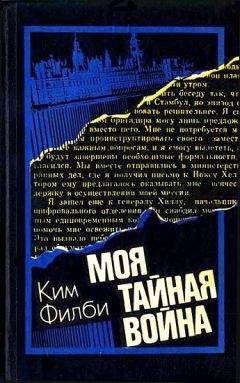Идея власти была очень важна в жизни Кима, но я не думаю, что она играла первоочередную роль. Дора Филби в 1936 году в разговоре со мной прямо заметила, что «проблема у тебя и у Кима в том, что ни у одного из вас нет амбиций». Была ли она права насчет меня, не имеет значения; так или иначе, она ведь знала меня не слишком хорошо. Но Ким был ее сыном. В то время как ее замечание, возможно, было отчасти направлено на очевидный дефицит успеха и цели в его развитии, с тех пор как он оставил Кембридж, она все-таки имела в виду врожденную особенность Кима. Собственно, вся жизнь Кима предполагает, что он был готов принять для себя все что угодно ради дела, которому служил, — от максимального подчинения до максимальной ответственности. Конечно, он воспользовался бы той мерой власти, которую это ему давало, — как, впрочем, и любой другой на его месте, — но я не рассматриваю это как главную движущую силу. В то же время на него большое впечатление произвела концепция власти как необходимое основание для любой деятельности или стратегии, в наибольшем или наименьшем масштабе. Он лишь презирал политиков — и разведчиков, — чьи притязания превысили доступные им власть и ресурсы.
Что же за человек был Ким Филби? Интересно, что, в то время как образы Бёрджесса и Маклина достаточно детализированы, убедительны и разумно последовательны, похоже, никто не может что-либо похожее сказать о Киме Филби. Даже у тех, кто, казалось бы, знал его лучше всего, в голове сформировались совершенно разные картины. Те, кто писал о нем, в большинстве своем склонны упускать из виду некую бойкость, подкупающее неуважение к действующей власти, праздную богемность, общительность, явное предпочтение спокойной житейской компании и беседе. Но отнюдь не таким представал Ким перед своим начальством в СИС, перед послами и советниками Дипломатической службы. В более формальной компании он проявлял серьезность в сочетании с определенной застенчивостью, которой наверняка способствовало его заикание.
Думаю, те, кто знал его хорошо, едва ли вспоминали об этом заикании, кроме тех случаев, когда в их окружении появлялись незнакомцы, и можно только гадать, какие это приносило Киму огорчения. Каждый, кто страдает от каких-то физических недостатков, вправе обратить это в преимущество, и Ким сознательно или подсознательно так и поступал время от времени, особенно на конференциях и заседаниях комитета. Поскольку разговор мог создать для него проблемы, его вмешательства были редки и неизменно коротки, хорошо продуманны и всегда выслушивались с должным уважением: это был своего рода урок для всех присутствующих.
Хью Тревор-Роупер обращает внимание на важный момент, когда выражает сомнение в том, участвовал ли Ким когда-либо в интеллектуальных дискуссиях4. Он действительно нечасто говорил об идеологии, философии, истории, литературе, искусстве и рассуждал на ряд других тем. Не уверен, однако, что было бы корректно отнести это на счет атрофирования разума, на который наложила отпечаток коммунистическая диалектика. В некотором отношении это предшествовало его обращению в новую веру. Еще будучи школьником или студентом, он начал терять интерес к обсуждению многих вещей, включая большую часть литературы и искусства, хотя тема музыки стояла для него особняком. Ему быстро докучали взгляды других людей. Но, насколько его знал я, он отпускал замечания, из которых было ясно, что если он захочет, то может относительно легко участвовать в беседе на самые разные темы. Однако было бы правильно заметить, что одна из причин, по которой он избегал дискуссий, заключалась в том, что существовало слишком много тем, по которым он не мог выразить свои реальные взгляды.
Тревор-Роупер описывает пребывание Кима в Стамбуле после войны как сибаритскую жизнь праздного мечтателя и добавляет, что в Америке его образ жизни давал богатую почву для комментариев. Киму нравились добротная пища и напитки, но большую часть времени он питался довольно просто. Физический комфорт никогда, казалось, не имел для него особого значения. Могу свидетельствовать, что его жизнь в Стамбуле была далека от сибаритской. В первые послевоенные годы люди, приезжающие из Англии, где совсем недавно действовала карточная система, при виде обилия мяса и беспошлинных напитков с завистью поглядывали на сотрудников Дипломатической службы. Тревор-Роупер также пишет, что в Рикменсуорте Ким жил намного лучше, чем позволял его доход отставного сотрудника в несколько сот фунтов в год, подразумевая тем самым, что тот явно рассчитывал на русские дотации. В этом я сомневаюсь. Для него было бы чрезвычайно опасно принимать много денег от русских — если он вообще в то время поддерживал с ними контакты, — и я знаю, что помощь ему оказывала мать Эйлин; кроме того, часть этого времени он все-таки работал. В Рикменсуорте точно не было никакой роскоши, да и комфортной эту жизнь назвать трудно. Похоже, в Бейруте было то же самое. В Москве, судя по отношениям с Элеонор, он вновь окунулся в активную жизнь, по крайней мере, не менее суровую, чем в Сент-Олбансе во время войны, но я сомневаюсь, тревожили ли его эти конкретные перемены его благосостояния.
Ким в основном замыкался в себе, но за пределами этого защищенного внутреннего святилища все-таки ощущал потребность в компании. Ему нравилось иметь вокруг себя небольшой круг друзей. Некоторых вполне можно было назвать близкими друзьями, с другими можно было просто приятно провести время, рассказать анекдот, пошутить. Но ему также нравились — по-своему — такие компаньоны, как Дик Брумен-Уайт и Томми Харрис. Дружба всегда имела для него значение. Когда он отправился в Москву, ему пришлось отказаться от многих вещей, но я бы удивился, если бы он пожалел о любом из своих лишений, за исключением только членов семьи и людей, которых он хорошо знал. Он был сентиментален и очень лоялен к друзьям, даже к Гаю Бёрджессу, который ему не нравился. Отношения с Гаем носили противоречивый характер: Ким был заинтригован его специфическим менталитетом и характером, но у меня с первых дней сложилось впечатление, что Гай — это своего рода таинственный «крест», который он должен был нести по жизни. Я связываю это с бесспорным фактом о том, что старому другу Ким ни в чем не мог отказать. Это было, конечно, лишь частичной причиной, но теперь очевидно, что он не мог полностью избавиться от Гая, которого сам же в свое время и помог устроить в советскую разведку. Этой ситуацией Гай, вероятно, и воспользовался.
В одном из интервью Ким сказал, что если бы он мог повернуть время вспять, то поступил бы точно так же. Думаю, это все-таки неправда, но не сомневаюсь, что он говорил серьезно. Но я не сожалею о том, что знал его лично. Он на многие годы обогатил мой мир, и я ему многим обязан. Конечно, наши отношения создали мне немало трудностей, но я не испытываю горечи — одно лишь сожаление. «Corruptis optimis pessima» («Падение доброго — самое злое падение»). Позвольте на этом и закончить.