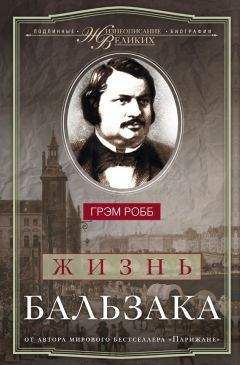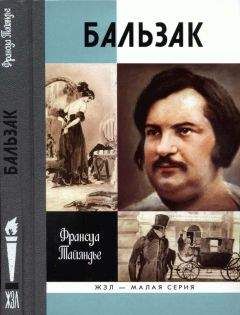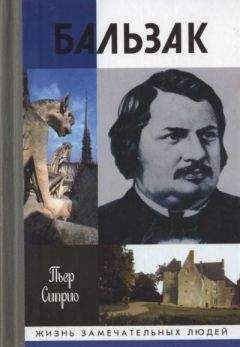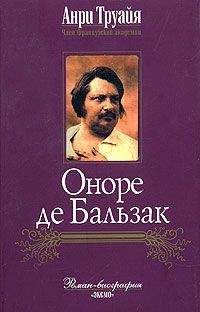“Нет, мадам, это запах музыки”»469.
Оргии – не просто любимое времяпрепровождение Бальзака в свободное от работы время. Они доказывают, что «Шагреневая кожа» вовсе не так фантастична, как кажется вначале. С одной стороны, Бальзак стремился войти в сливки парижского общества, так как ему претили степенные, ограниченные литературные салоны вроде салона его друга Шарля Нодье при библиотеке Арсенала. В таких местах, писал Бальзак, можно быть уверенным, что вами будут восхищаться самым правильным образом, поставив вас за более высоким субъектом, чтобы пришлось подниматься на цыпочки, и осыплют вас правильными комплиментами: «колоссальный», «восхитительный» и т. д. «В дискуссии оброните слово “актуально”, затем помешайте огонь в камине и больше ничего не говорите. На следующий день все будут повторять слово “актуально”, нисколько не задумываясь над тем, что оно значит»470. С другой стороны, в общении Бальзака прослеживаются признаки профессиональной целесообразности. Трата денег считалась лучшим способом оплатить долги. Искушенный приятель Рафаэля внушает ему, что беспутный образ жизни – своего рода «политическая система»: «Стиль жизни человека, который проматывает состояние, может быть своего рода спекуляцией; его капитал вложен в друзей, удовольствия, покровителей, знания»471. Сам Бальзак часто высказывался сходным образом, хотя в романе, в общем, осуждает подобные взгляды. Он уверял, что вынужден погрузиться в салонную жизнь Парижа, потому что чем больше людей он узнает, тем солиднее его репутация и тем больше денег может он заработать. При этом он начал сорить деньгами. Так, он расширил свое жилище на улице Кассини, сняв в сентябре 1831 г. еще одну часть дома. Ему понадобилась конюшня и сарай для новой кареты. Он приобрел пару лошадей, которым дал клички Смоглер и Британец. Кроме того, он нанял двоих слуг, Леклерка и Паради, последнего, скорее всего, за фамилию («паради» означает «рай»), и кухарку по имени Роза, искуснейшую повариху, то, что французы называют cordon bleu. При этом Розе поручалась унылая задача кормить человека, который днем питался в гостях, а дома на ужин съедал одно яйцо472.
Даже отдыхая, Бальзак умудрялся утомиться до предела. В те годы его жизнь еще не была так подробно задокументирована, как впоследствии, но в тех редких случаях, когда имеются надежные свидетельства его передвижений, кажется, что он буквально был вездесущ; даже самому доверчивому биографу приходится то и дело сверяться с расписаниями почтовых дилижансов, настолько фантастическими кажутся маршруты Бальзака473. Вечером 7 сентября 1831 г. Антуан Фонтане видел его в салоне барона Жерара. Вскоре после этого Бальзак оказывается в Саше, в 13 милях от Тура, причем ехать приходилось по трудным дорогам. Сам же Тур находился в двадцати трех часах езды от Парижа. 13 сентября Фонтане снова сообщает, что видел «великолепного мсье де Бальзака» в Париже, в салоне мадам Ансело. 20 сентября Бальзак снова был у барона Жерара; но 23 сентября мы узнаем, что Лора послала брату денег в Немур, город, который находится в 50 милях от Парижа. Железнодорожное сообщение тогда пребывало еще в зачаточном состоянии, но Бальзак носился туда-сюда так, словно уже изобрели скоростные электропоезда. Кстати, непонятно, почему ни один из его героев не путешествует на поезде.
Короче говоря, «Шагреневая кожа» – один из лучших романов, написанных в состоянии полного изнурения. «Измерял ли ты свою шагреневую кожу, – спросил Бальзака знакомый, – после того как сделал ремонт в квартире и твоя ужасно современная карета начала привозить тебя домой в два часа ночи?» Бальзак, как Рафаэль, расплачивался за свои познания. Но в подробностях новой жизни, заполненной до предела, и в постоянном желании получить новые впечатления чувствуется мощная сила остранения и сосредоточенности. Бальзак мог, или заставлял себя в силу характера, одновременно преследовать разные цели. У него имелся талисман, помогавший ему избежать бессмысленного расточения энергии. Этот талисман – чувство юмора. С его помощью он выживал в тесном, злобном мирке литературного Парижа. Многие считали Бальзака наивным, но человек, пославший якобы смертоносный паштет своему издателю, был способен даже свою ненависть переложить в литературу. Все его оскорбления занимательны. Подобно Флоберу, Бальзак считал себя знатоком человеческой глупости. Чем больший размах приобретало его творчество, тем больше материала он находил для своих романов. «Примерно двадцать четыре часа я бурлю от гнева; в то время я мог бы убить его, – писал он об Амедее Пишо, редакторе, не оказавшем Бальзаку должного почтения, – но потом я вспоминаю о творчестве. К своим книгам я отношусь как султан, у которого столько детей, что он уже не помнит, кто от какой матери появился на свет»474. Даже разногласия с новым управляющим «Ревю де Пари» преломились в упражнение в этимологии в одном «Озорном рассказе»: «Фамилия упомянутого настоятеля была Пико или Пикол, от слова picottin, picoter pi-corer (“клевать” или “красть”). Некоторые называли его Пито или Питол, откуда произошло pitance (“жалкие гроши”); другие, на южном диалекте, называли его Пишо, что значит “жалкое создание”»475.
Бальзак часто метался из стороны в сторону и развивался не так быстро, как ему хотелось бы. Причина заключается в том, что цели, которые он перед собой ставил, отодвигались по мере того, как он шагал вперед. «Шагреневая кожа» – не только символ, но и факт, который можно подержать в руках. В конце «Человеческой комедии» приводятся планы и наброски, которые Бальзак так и не успел воплотить в жизнь или завершить. Тонкий срез его опубликованного творчества отражает непропорциональное количество надежд и желаний, которое усыхает, как шагреневая кожа, до размера ивового листа476.
Бальзаку давно хотелось написать серию рассказов в раблезианском духе. Она получила известность под названием «Озорные рассказы» (Contes Drolatiques). По словам автора, их якобы «собрали в монастырях Турени» к радости поклонников Рабле. Бальзаку нравилось видеть в «Озорных рассказах», часть же представляет собой коллаж уже известных историй, свою главную заявку на вечность477, хотя удивительная оценка на самом деле порождалась страхом, что их забудут – как то периодически и случалось. В более хладнокровном состоянии он называл «Озорные рассказы» «арабесками» или набросками, любовно нацарапанными на лице «Человеческой комедии»478. Предполагалось, что их будет сто, но в конце концов издали всего тридцать, в трех выпусках по десять рассказов. Только Бальзак мог назвать тридцать историй «фрагментом». Иногда их можно найти на полке заштатного книжного магазина с пышногрудой красоткой на обложке. Аннотация гласит: «Самые яркие, самые скандальные из всех историй в полном, несокращенном, переводе»479. Подобный отзыв в чем-то избыточен. Даже после самого бережного сокращения от «Озорных рассказов» осталась бы тоненькая брошюра, которую не стоило издавать. Все истории в духе фаблио написаны на средневековом французском, который изобрел сам Бальзак, дополнены архаизмами и архаическим синтаксисом. Местами повествование кажется совершенно неразборчивым изза чудесных звукоподражаний, которым не нашлось места в словарях Французской академии.