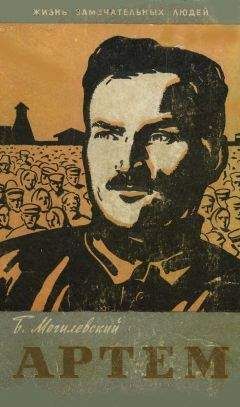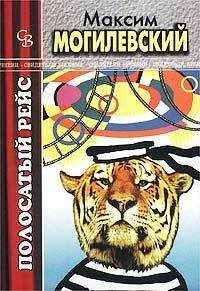Попытки организации марксистского кружка для коренных австралийских рабочих, в котором изучался бы исторический материализм и политическая экономия, встретили большие трудности. Заправилы Рабочей партии — лейбористы, всесильные в рабочем движении штата, косо поглядывали на деятельность Артема. Тем не менее вокруг него уже собралась группа австралийцев, которые готовы были создать партию нового типа.
В апреле Артем послал Екатерине Феликсовне Мечниковой в Москву большое письмо. Поражает в этом письме широта интеллектуальных интересов Артема, его своеобразный анализ явлений современной литературной жизни России. Откуда брались силы и время у этого измученного тяжелым физическим трудом грузчика, ведшего одновременно напряженнейшую работу партийного организатора и пропагандиста, для систематического чтения книг, получаемых с родины? Книги эти не просто прочитывались, но подвергались глубокому осмысливанию.
Артем писал: «…Книги Ваши я прочел. Есть таланты, которые не стареют. В 70 лет Бебель[25] сохранил всю пылкость и страсть агитатора, какою он обладал в 25 лет. Он лишь прибавил к ней свою полувековую опытность. И Толстой до конца сохранил свой своеобразный и колоссальный художественный талант. Признанный академией Бунин — только жалкий школьник по сравнению с Толстым. Как тщательно продуманы у Толстого все детали каждого характера, вплоть до самых отдаленных и сложных душевных движений! Он знает старую Россию. Он певец ее. Он не испытал участи Горького — узнать мятущуюся душу современного, создающего революцию и созданного революцией человека. Душу, которая изломана вместе с ломкой прежних общественных отношений и которой не дано еще условий для формирования в определенном направлении. Толстой боролся за старое, понимая его. Оттого его образы так рельефны. Горький идет вместе с ломкой старого, ненавидя это старое, но и не охватывая нового во всей его совокупности.
Когда читаешь Толстого (я говорю про себя), становишься таким спокойным и уравновешенным, как тот порядок, те условия, в которых жили и умирали герои Толстого. Горький же либо заражает своей пылкостью, либо заставляет переживать все муки недоумения, муки мысли, которая не додумана и не может быть додумана. Его песни, им нет равных в мировой литературе. Зато его повести слабее слабого по законченности и разработанности образов. О них, образах, далеко нельзя сказать, что они высечены из мрамора. Рельефность этих образов только кажущаяся. Если откинуть красочность языка, своеобразную способность сливаться с природой, останется лишь недодуманная мысль, воплощенная в незаконченный образ. Видите ли, я читал Толстого, находясь под влиянием Горького. И эти мысли невольно пришли мне в голову.
Я обладаю несчастной особенностью: если у меня зашевелится какая-либо мысль, я не могу не додумать ее. А когда я додумал или пришел к заключению, которой меня удовлетворило, я не могу не высказать этой мысли. Поэтому в моих письмах Вам всегда так много, по-видимому, лишнего, не вызванного содержанием предыдущего. Но я только я. В письмах к Вам и вообще я говорю о том, что переживаю. И именно внутренние переживания единственно меня занимают. Во внешности я всегда неряха. Не только в смысле манеры носить одежду, но еще больше в особенности вообще не замечать деталей обстановки. Если я тем более занят обдумыванием чего-либо, хотя бы во время работы, напрасно кто-либо будет звать меня, обращаться ко мне. Надо меня толкнуть, крикнуть над ухом или сделать еще какое-либо необычайное и резкое движение, чтобы я вышел из состояния задумчивости. Но странно, что даже на опасных работах я ни разу сильно не поранил ни себя, ни других. Делаю машинально, без участия сознания, и, однако, с полным различием самых мельчайших деталей. Какая-то двойственная и притом раздельно двойственная работа сознания. Два отдельных сознания в одном теле. Многие приписывают это тому, что я не понимаю того, что мне говорят. Но я ведь одинаково отношусь и к команде или обращению на русском языке».
Начал письмо с мыслей о крупнейших явлениях современной ему русской литературы, а кончил штрихами своего психологического портрета. И во всем предельная искренность, желание самому понять и осмыслить прочитанное и увиденное, по-своему проанализировать и прийти к заключению о том, что волновало и привлекало внимание.
Весть о кровавых событиях в России долетела до Австралии. Царские палачи расстреляли мирное шествие рабочих на Ленских золотых приисках. 270 человек убито, 250 ранено. Так ответил царизм на скромные требования рабочих далекой Лены об установлении 8-часового рабочего дня, увеличении заработной платы и отмены штрафов. В угоду английским акционерам «Лензолото», в угоду русским капиталистам была произведена эта зверская расправа.
На запрос социал-демократов в Государственной думе о Ленском расстреле царский министр внутренних дел Макаров заявил: «Так было и так будет!»
По всей России прокатились массовые политические забастовки: бастовало более 300 тысяч человек. По словам Владимира Ильича Ленина, «Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс» [26].
Некоторые члены Союза русских эмигрантов требовали немедленного возвращения в Россию и применения террора к палачам русских рабочих. В ответ на эти настроения выступивший на собрании союза Артем говорил:
— Ленские расстрелы наиболее ярко показали, что главные палачи не в России, а в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Пойдите в музей Брисбена, и вы увидите модель самого большого самородка (золота) в мире, найденного в Сибири, на Лене, и отправленного на монетный двор в Лондон. Разве не мировые хищники были подстрекателями и требовали от царя и царских лакеев суровой и решительной расправы с осмелившимися поднять голову русскими рабочими? Возвращаясь в Россию и применяя не массовую борьбу, а террор, мы ничего не сделаем с мировыми хищниками и палачами. Мы должны развивать борьбу в мировом масштабе. Нам здесь нужна сплоченная организация, своя газета, в которой мы могли бы освещать такие события, как Ленский расстрел, газета может проникнуть ко всем товарищам, разбросанным по Австралии…
В конце июня 1912 года труды Артема по выпуску в свет первой в Австралии русской газеты увенчались успехом. Работая грузчиком на пристани и одновременно в Союзе русских эмигрантов и в местной социалистической группе, Артем сделался также единственным работником «Эхо Австралии» — так назвали русскую газету в Брисбене. Он писал газету, вычитывал корректуру, рассылал номера подписчикам, вел переписку с корреспондентами. «Убийственно тяжело», — коротко говорил своим далеким друзьям Артем, а сам догружал себя еще переводом на русский язык с английского фундаментального труда Маркуса Кларка «История австралийской каторги». Это и была настоящая жизнь для Артема.