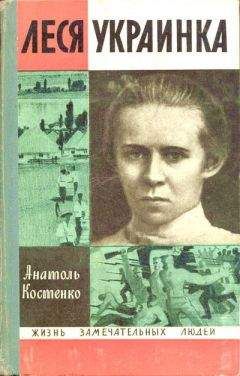— Может быть, тот архив и достоин жертвы, но у меня не поднимается рука на такое самоубийство. У меня нет еще такой смелости, я еще не нажилась душой, я еще даже как следует не испытала своей силы, а уж должна ее отвергнуть, придушить, отказаться? Нет, не хватает отваги, хоть бросьте в меня камнем. Не могу.
Леся замолчала. Молчал и Павлык. Затем вспомнил о ее товарище и о том, стоит ли ему приезжать сюда при таких далеко не «мирных» намерениях.
— Я, собственно, потому и хотела бы, чтобы он поселился здесь, тогда была бы возможность разделить труд. На той должности, о которой вы говорите, он служил бы прекрасно. А я вместе с вами занималась бы изданиями. Это было бы хорошо, не так ли?
Павлык внутренне соглашался с Лесей, но чем он в состоянии был помочь?
— Видите ли, Лариса, эта должность предназначена исключительно для вас. Ваш протеже может рассчитывать лишь на лекции и эпизодические гонорары, весьма низкие.
— Итак, и я, и, как вы говорите, мой протеже будем зависимы от его величества случая… Этого я боюсь — говорю вам открыто…
В этом одинаково сложном и трудном для обоих собеседников разговоре Леся не раз обращается к имени Михаила Драгоманова, которого она всегда уважала и с огромной благодарностью вспоминала как своего учителя.
Однако было бы непростительной ошибкой делать вывод, будто Леся Украинка являлась единомышленником Драгоманова и разделяла его общественно-политические взгляды и убеждения. Еще до поездки в Болгарию (и во время пребывания там) поэтесса выступила с такими произведениями, как «Предрассветные огни», «Мой путь» и другие, в которых звучат более революционные и современные мотивы, нежели в работах Драгоманова. Уже в этот период она стояла ближе к народу, глубже понимала и чувствовала его интересы. Все последующее творчество и практическая деятельность Леси Украинки свидетельствуют о том, что она продвинулась значительно дальше своего учителя. Она, например, напрочь отбросила его мысли о переустройстве общества методами реформ, не воспринимала его идеи федерализма, культурно-национальной автономии и чрезмерного увлечения европеизмом. Она всегда горячо отстаивала революционные методы борьбы во всех вопросах социального движения, а социал-демократию считала самым универсальным движением, то есть самым передовым, наиболее отвечающим интересам рабочего класса и крестьянства.
«СВЕРНУТЫЕ ГОЛОВЫ». СПОР С ТРУШЕМ И ГАННЕВИЧЕМ
Назавтра Леся нанесла визит Франко. Теперь он жил в новом доме по улице Понинского. Трамвая тогда еще не было, и Леся наняла извозчика.
Перед высокими каменными ступеньками, которые вели в домик, гостья остановилась. Молодой сад, кусты смородины вдоль дорожек, небольшой цветник у самого дома. Жена Франко встретила Лесю как давнюю добрую знакомую. Казалось, она стала меньше ростом, еще больше осунулась и похудела. Но черные глаза, как и прежде, искрились. Услышав разговор, Франко вышел в коридор. Тепло поздоровался с Лесей и пригласил в свой кабинет.
Его комната, как, впрочем, и все остальные, обставлена непритязательно: грубо выстроганная мебель, книжные полки от пола и до потолка, на стенах портреты Шевченко и самого хозяина, написанные художником Юлианом Панкевичем, картина Ивана Труша «Вид на Днепр». К украшениям кабинета можно было отнести, пожалуй, только некоторые вещи, подаренные Франко в дни его юбилея. На столе, кроме книг и бумаг, красивый рог в бронзовой оправе чеканки итальянских мастеров — подарок Соломин Крушельницкой.
Леся отметила, что книги расставлены в таком же порядке, как и в предыдущей квартире Франко. С закрытыми глазами он мог найти любую. Сохранился старый небольшой шкаф для рукописных материалов и даже маленькая картонная коробочка, в которую он прятал свои стихи… Неизменной осталась и привычка писать на клочках бумаги — они были разбросаны на столе…
Никогда прежде не приходилось Лесе говорить с Франко на такую грустную тему, как сейчас. Речь зашла о стихотворениях Франко, напечатанных в «Литературно-науковом висныке» («Из дневника»), в которых вылились горькие чувства, неописуемая скорбь израненной души поэта по произведениям, задуманным и погибшим в самом зародыше, так как обстоятельства им «свернули голову». Поэту жаль их, как детей. Нередко являлись они среди ночи, тревожили, изводили сомнениями. Наконец, не выдержал и однажды написал обо всем Лесе в Сан-Ремо. Выслал ей журнал и попросил высказать свое мнение. Она сразу же откликнулась.
«Скажу прямо: далеко не каждое Ваше стихотворение отзывалось у меня где-то в глубине сердца, как эти строки «Из дневника». Я не знаю, что было с Вами в этот страшный день, которым датированы стихи, только понимаю и чувствую, что он был страшен. И я понимаю Ваши стихи широко — может быть, слишком широко, скажете Вы, но помните, что я всегда ищу в произведениях поэта не автобиографию (особенно если он не хочет ее дать), а нечто такое, что не только его одного касается. И я, кажется, нашла это сразу, без усилий.
Когда-то давно, еще в Колодяжном (Иван Франко был там у Косачей в мае 1891 года. — А.К.), Вы посвятили меня в один свой замысел, который мне показался необычайно интересным и оригинальным, потом элементы его я узнала в драме «Каменная душа» и искренне призналась Вам, что от плана я ожидала большего. Вы сказали, что действительно должны были «свернуть голову» плану по не зависящим от Вас причинам…
Еще раз, тоже давно (кажется, когда я в первый раз была во Львове) Вы говорили, что намереваетесь писать какой-то роман, что он Вам очень по душе. Припоминаете? Позже я спросила, что с Вашим романом? Вы ответили что-то безнадежное… Как раз тогда я прочитала где-то в «Курьере», что ли, описание какой-то сельскохозяйственной выставки, signe[70] Франко!.. Тогда же Вы писали по всякому поводу множество мелких корреспонденции. Мне неизвестно, что вышло из плана Вашего романа, ибо не знаю его темы. И часто я думала об этих «свернутых головах» и об этих корреспонденциях… Думала и тогда, когда писала свою драму о скульпторе среди пуритан в диких пущах первых американских колоний.
Думала и тогда, когда кое-кто упрекал меня в том, что я из-за поэзии отхожу от реальной, полезной работы… Мне ставили в пример Вас, и, знаете, у меня действительно много «горячего» в натуре: задумано — сделано. И я не одну голову «свернула», думая, что выполняю гражданский долг, отдавая свое время и свои очень ограниченные силы «полезной» и никому, даже мне самой, не заметной работе. Я и до сих пор не знаю, хорошо или плохо я делала, но только когда я прочитала крик и жалобы Ваших «детей»,[71] то и мои отозвались тем же голосом!.. Я тоже могла бы сказать, что «не появившиеся на свет дети» приходили по ночам и ко мне и я слышала их рыдания, — «тень голоса, вздохи»…»