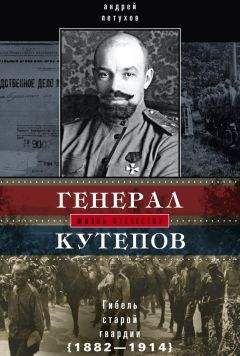Я смиренно подала ему в окошко обувь и обвела взглядом будку. Вот табуретка в углу, — та голубая табуретка с потертой до поблескивающей желтизны перекладинкой внизу у ножек. Клиенты не садились, а плюхались, усталые, на нее с радостью.
— Так что бы вы хотели? — услышала я.
По лицу старика пробегало сомнение, когда он осматривал туфли со стоптанными задниками и обреченной набойкой.
— Да вот каблуки, — невинно проговорила я, зная, что тут не за что набойке держаться.
Однако старик согласно кивнул. Набойка так набойка. Дескать, твои деньги, моя работа, что просила, то и получай!
Было в будке прохладно и пахло мягкой кислотой кожи, куски и обрезки которой валялись на грязном полу, в углу, неподалеку от стола. И ценник — на видном месте, как в настоящем ателье! «Это уже что-то новое», — усмехнулась я.
— Вот тут трещина! Видите? — перехватил улыбку старик. Полуобернувшись, снова съехидничал: — Мой коллега вам бы не стал докладывать?
— Возможно. Что я смыслю в вашем деле?
— А трещина знаете отчего? — взгляд с прищурочкой. — Гвозди толстые всадил.
— Видимо, тонкие не годились…
— Ну вот… а говорите, ничего не смыслите. Сейчас все грамотные стали… профессора прямо-таки…
Я слушала старика рассеянно, потому как глаза выискивали запавшие в сознание знакомые черты человека, изо дня в день выполнявшего хоть скромную, но полезную для людей работу… И вдруг он весь предстал предо мной, — будто въявь увидела его, как всегда, отекшего, с шумной тяжкой одышкой, с грустно-страдальческим выражением на красном в болезненной испарине лице.
В прошлом крепкое, созданное для здоровой жизни тело, казалось, изнемогало от тяжести. Одни лишь глаза поражали своим блеском, как бы таили в себе еще не израсходованную энергию. Чувствовалась крепость и в руках. Когда он ловко вбирал в широкую, мягкую ладонь туфлю, спрашивая: «Что там у вас?», видно было, что эта ладонь, эта рука живет самостоятельно, независимо от больного тела.
«Что там у вас?» — по существу был вопрос по привычке. Сам же он, постукивая суставом указательного пальца по подошве, уже прикидывал, какой тут ремонт требуется. Проявлялась увлеченность мастера.
Да. Совсем как живой, он стал у меня перед глазами. Вот смотрю я на его широкую, туго обтянутую синей рубашкой спину, склоненную в редких сединках круглую голову. Вот он сейчас отложит в сторону туфлю, проведет тыльной стороной руки по взмокшему лбу… Будет нагибаться, чтоб поднять нужный кусок твердой кожи… на расстоянии видишь его напряженное дыхание под шелковой рубашкой с расстегнутым воротом. Он сразу найдет то, что ему требовалось. Бегло прощупает пухлыми пальцами. И р-раз, р-раз, прикладывая кожу к каблуку, обрежет… изнутри тем же плоским ножиком с изоляционной лентой на конце придаст форму серпика. Швырнет обрезки. И, распрямляя спину, шумно выдохнет воздух.
Я ему как-то попробовала заикнуться:
— Может, пойти вам домой? Прилечь? — И отвернулась, чтобы скрыть от него выражение боли на своем лице.
Тело его напрягалось, когда он делал вдох и выдох, когда хватался за ворот рубахи, широко распахивал его. Он обронил неохотно:
— А что — дома?.. Безделье?.. Безделье — силы пожирает! На работе да с людьми — и ты Человек!
Вот тут вот, на этих двух посеревших от пыли кирпичиках, выкрошенных по краям, стояла плитка. Обыкновенная, электрическая. Выходит, не она, а люди обогревали этого больного человека!..
Я обежала глазами обшарпанный, в желтых грязных пятнах потолок и стены. На том же месте, возле полки, все еще держался приклеенный осколок зеркала, сильно почерневший и в частых крапинках. То ли следы мух, то ли — краски?
На полке — разная обувь, на рабочем столике — та же банка с обгрызенной этикеткой: «КИЛЬКА». В банке — гвозди. В граненом стакане — засохшая краска… И золотистая струя уличного солнечного воздуха в приоткрытую дверь будки.
Все, как прежде, только в пыли, в запустении, без ухода. Без того Человека.
Неужели эта будчонка-скороспелка пережила своего создателя? И скороспелка ли она? Если, от тлена убежав, живет еще в ней хозяин?
Чтобы напомнить о себе и нарушить молчание, старик кашлянул. Он сидел, сгорбившись, и между коленками, прикрытыми синим дерматиновым фартуком, держал лапу, на которую натягивал одной рукой туфлю, а другой — из сжатых губ выдергивал гвоздочки и забивал в подошву. У нашего любимца-сапожника это получалось красиво, непринужденно, можно сказать, виртуозно. Этот работал с той напряженностью, которая дается человеку хорошо развитой воли.
— Скажите, пожалуйста, почему вы не на пенсии? — спросила я.
Он ответить не успел. В будку с шумом влетела девушка с черной челкой.
— О, деда! — воскликнула она, тоже, видимо, рассчитывавшая увидеть того сапожника. И сникла. Спавшим голосом добавила: — Будьте добры… только пару гвоздиков…
— Ой ли, пару гвоздиков! — покачал головой старик, откладывая туфли.
— А куда их больше? — Девушка, просовываясь по пояс в окошко, потянулась за босоножкой. Старик положил ее на коленко. Сказал уже с видимой благосклонностью:
— И все-то вы знаете… умные все какие стали… сели бы сами и сделали, коль такие умные. — Он взял босоножку в ладонь и ткнул в нее пальцем, — гвоздь на гвозде… их из кожи не выволокешь… а подошву не держат…
И плоскогубцами начал выковыривать подковку, да заодно с подковкой оторвал каблук.
— Вот видите, теперь вам еще и за каблук платить…
— Ладно, делайте, — махнула рукой девушка.
Он долго тюкал молоточком по крепкой подошве, чтоб угодить девахе, которая непременно прибежит и завтра, и послезавтра. И с радостью выкинул ей готовую босоножку из окошка, подстегнутый этой надеждой.
А когда мы остались одни, он подавил глубокий вздох, сказал:
— Давеча про пенсию мне намекнули… Не угодил, стало быть… А работу ведь еще не видели… чего же раньше-то времени, авансом… У меня, знаете, солидные клиенты были…
И начал рассказывать, кто были его клиенты, сколько ему платили за ремонт и сколько на чай оставляли, потом — где воевал, куда был ранен и при каких обстоятельствах. В лице его прибавилось горечи, когда, подбивая итог, заключил:
— Как видите, судьба по спине меня не гладила и паинькой не называла…
И неожиданно замолк. Видимо, погрузился в воспоминания.
Я снова обвела взглядом будку. Вот гвоздь в углу, в красных крапинках. Поржавел. На нем всегда и зимой и летом висел серый жесткий плащ. Рвалось пополам сердце. Покоя не давал вопрос о предшественнике.
— Кто его знает? — уже более миролюбиво ответил старик, видимо, выговорившись. — Может, в мастерскую какую перешел? Я не люблю работать в мастерской. Под занавесом. — Он остановил на мне тот же с прищурочкой взгляд тусклых глаз. — Место… глядите, — он бородкой кивнул на окно с заляпанными давним дождем стеклами: — Оживленное. Не надо, а заскочишь пару гвоздочков забить…