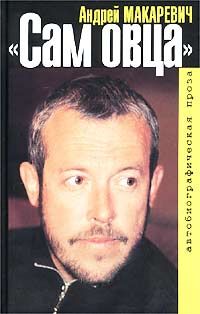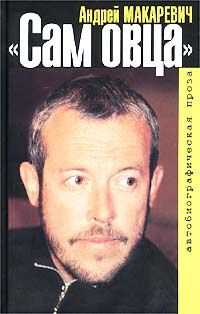Возбужденные ситуацией,
Разговорчиками опьяненные,
Все разбились на демонстрации —
Тут те красные, тут — зеленые.
И ничуть не стыдясь вторичности,
Ишь, строчат от Москвы до Таллина
Про засилие культа личности,
Про Вышинского да про Сталина.
Размахалися кулачонками,
Задружилися с диссидентами,
Вместо «Бровкина» ставят «Чонкина» —
Ох, боюсь, не учли момента вы.
Ведь у нас все по-прежнему схвачено,
Все налажено, все засвечено,
И давно наперед оплачено
Все, что завтра нами намечено.
Навели, понимаешь, шороху —
Что ни день — то прожекты новые.
Знать, давно не нюхали пороху,
Демократы мягкоголовые.
Вы ж, культурные, в деле — мальчики,
Знать, стрелять по людям не станете.
А у нас — свои неформальчики:
Кто-то в люберах, кто-то в «Памяти».
Можем всех шоколадкою сладкою
Одурачить в одно мгновение,
А потом — по мордам лопаткою,
Если будет на то решение.
Отольется вам не водичкою
Эта ваша бравада стадная:
Нам достаточно чиркнуть спичкою —
И пойдет карусель обратная.
И пойдет у нас ваша братия
Кто — колоннами, кто — палатами,
Будет вам тогда демократия,
Будут вам «Огоньки» со «Взглядами».
А пока — резвитесь, играйтеся,
Пойте песенки на концерте мне,
Но старайтеся — не старайтеся,
Наше время придет, уж поверьте мне.
Время точно под горку катится,
Наш денек за той горкой светится,
Как закажется — так заплатится,
Как аукнется — так ответится.
Немного смешно сейчас это читать. Очень, наверное, была злободневная песня. В свое время.
Девятнадцатого августа мы с «Машиной» были на гастролях в городе Липецке — неказистый стадиончик, мерзкая погода. В этом смысле «Машина времени» — уникальная команда: для того чтобы вызвать дождь посреди самой невероятной засухи, достаточно устроить там концерт «Машины» под открытым небом. Моросил дождик, мы ехали на настройку аппаратуры на кривом автобусе, по радио каждые пятнадцать минут повторяли «Приказ номер один», музыканты, явно находясь в нервном шоке, похохатывали по поводу того, как лихо эти гэкачеписты этого Горбачева скинули. «А что вы, собственно, смеетесь?» — спросил я, и стало тихо.
Настроение было ужасным и каким-то новым — я себя так еще никогда не чувствовал. Совершенно было непонятно, что делать дальше. Я ощущал абсолютную бессмысленность и неуместность предстоящего концерта — с одной стороны. С другой стороны, десять тысяч человек, купившие на нас билеты и постепенно заполняющие трибуны, были ни в чем не виноваты.
«С праздничком вас», — растерянно пошутил я, выйдя на сцену. Мне растерянно поаплодировали. Я не помню, как прошел концерт, — голова думала совершенно о другом, и ничего не придумывалось. Никогда еще я не работал на сцене на таком автомате. После концерта стало известно, что по телевизору выступил Ельцин, назвал все это дело переворотом, и что он в Белом доме, и что Белый дом, скорее всего, будут атаковать, и вокруг него собираются люди для его защиты. Стало ясно, что надо ехать в Москву.
В общем, мы как-то легко отменили дальнейшие культурные мероприятия и поехали в Москву. В вагоне со мной ехала бригада милиционеров — узнав о происходящем, они самовольно оставили службу и отправились защищать Белый дом. Никто в вагоне не пил, милиционеры курили в коридоре, дымя в окно, и осаждали меня вопросами, далеко выходящими за пределы моей компетенции — как жить дальше.
В Москве было серо и дождливо — абсолютно безысходная погода. Посреди пустой стоянки на Киевском вокзале нелепо торчала моя машина. Я добрался до нее, прыгая через лужи, подъехал к выезду, расплатился с сонным сторожем. «Ну что, стреляли ночью?» — спросил я его. «Постреливали», — ответил он флегматично.
Первым делом я поехал в Валентиновку — в свой Белый дом. Надо было получить хоть какую-то информацию — такой вещи, как мобильный телефон, в нашем быту еще не существовало. (Помните, он появился чуть позже и сразу стал главной деталью на портрете нового русского — как предмет роскоши, дорогой и абсолютно бессмысленный. То, что это всего лишь средство связи, осозналось потом. Сейчас с ним ходят школьники. Время, время.)
Я включил приемник в машине, но очень немногочисленные тогда FM-ные станции либо молчали, либо крутили какую-то совершенно нейтральную инструментальную музыку — она вызывала ощущение похорон незнакомого, неблизкого человека. Москва выглядела пустой и безлюдной, как никогда — изредка пролетали одинокие машины, в основном черные «Волги», прохожих не было видно. Если бы это было кино, эстеты упрекнули бы режиссера, что все уж как-то слишком, на грани пошлости — и этот дождь, и эти пустые серые улицы, и гэбэшные «Волги».
Я ехал и думал о том, что больше всего меня, оказывается, печалит тот факт, что через несколько дней должна была открыться выставка моей графики во Дворце молодежи, и я к ней очень готовился и очень ее ждал, а теперь — какая уж там выставка.
Почему-то не думалось — а как теперь вообще всё? Человек не может печалиться по поводу абстрактного — нужен конкретный адрес приложения печали. Печалит не тот факт, что умерли все, а то, что умер Гриша. Истинно сказано у Окуджавы: «Больно человеку — он и кричит». Наверно, так себя чувствовали люди в день объявления войны — ты собираешься послезавтра с другом на рыбалку, думаешь, что подарить любимой девушке на день рождения и куда с ней пойти, покупаешь книгу по дороге домой, неспешно планируешь свои летние передвижения во время предстоящего отпуска, переживаешь, что опять не успел помыть машину, и вдруг — все перечеркнуто чьим-то одним движением, все разом теряет смысл. И наплевать тому, кто это движение совершил, и на тебя, и на все твои планы и амбиции — он и о существовании твоем не знает.
Вспомнились худсоветы, коллегии Министерства культуры, вызывающе неприметные люди в штатском, твой телефон, к которому, кроме тебя и твоей любимой девушки на другом конце провода, еще приложила ухо посередине какая-то сволочь.
Дивная, кстати, была история с телефоном году в семьдесят девятом. Слушали меня тогда плотно, и самое противное заключалось в том, что пока сотрудник органов внутренней секреции не брал свою трубку, соединения с абонентом не происходило. А он, естественно, не мог сидеть на месте двадцать четыре часа в сутки и то и дело отлучался — то покурить, то пописать. В эти моменты я оказывался лишенным связи — телефон звонил, я снимал трубку и продолжал слышать звонки уже в ней.